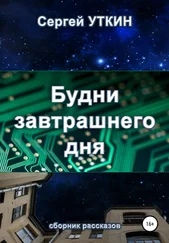Эбер открыл собственную типографию на деньги жены, которая упоминает об этом в письме к невестке, поясняя: «До этого мы имели несчастье связаться с самым прожженным мошенником во всем Париже. Он обманывал нас, где только мог».
Эбер, в свою очередь, добавляет: «Я порвал с моим издателем и, объединившись с другим литератором, приобрел половину типографии, очень хорошо оборудованной; теперь собираюсь печатать там „Папашу Дюшена“. Надеюсь, скоро я сколочу небольшое состояние, потому что с начала Революции на мне разбогатели уже четыре издателя. Я получил множество писем от моего кузена (Этьена), который имел глупость эмигрировать. Он оставил своих друзей, родных и отечество, чтобы присоединиться к тем подлым рабам, для которых скоро не будет убежища больше нигде в целом свете. Признаюсь, меня это раздосадовало… я не думал, что он настолько привязан к аристократии, чтобы пойти на такую крайность. Я узнал, что в Алансоне существует Общество друзей конституции, но мне хотелось бы, чтобы там появились и братские объединения вроде парижских, состоящие из рабочих и бедных граждан, которым нужны инструкции к действию. По воскресеньям и праздникам там могли бы читать газеты и проводить публичные мероприятия. Поделитесь этой идеей с каким-нибудь патриотом и свяжитесь с теми обществами, что уже существуют в вашем городе — как с отделением Якобинского клуба, так и с Обществом друзей конституции. Поскольку я член чуть ли не всех парижских обществ, я мог бы наладить связи, полезные для тех, кто пытается делать столь нужное дело на благо свободы! Твой брат и слуга Эбер».
В тот же день, тем же пером, обмакнутым в те же чернила, он заставляет папашу Дюшена возопить: «К оружию, храбрые санкюлоты! Наточите острия своих пик поострее, чтобы втыкать их в аристократов, если те только посмеют зашебуршиться! Пусть этот славный денек станет последним днем их власти! Долго мы спали; но теперь не будет нам ни отдыха, ни покоя, пока голова последнего аристократа не слетит с плеч!»
С обоими врагами — тем, что стоял у внешних границ, и аристократией, которая подтачивала нацию изнутри, — нужно было покончить. «Хватайте пики — только они смогут научить наших врагов уму-разуму! Я заказал недавно сто тысяч новейшего образца!»
Очевидно, с точки зрения Эбера было что-то подозрительное в этом затишье, в этом отсутствии сражений: «Со всех сторон только и слышу: что делает наша армия? Ни хрена она не делает! Этого ли мы добивались, когда собрали под ружье столько солдат, что их хватило бы для завоевания всего мира? И каково теперь смотреть, как они вместо этого валяют дурака? Они уже давно должны играть в кегли скипетрами всех королей, императоров, монархов!..»
Здесь из папаши Дюшена уже проглядывает Бонапарт. Несколько недель он произносил свои призывы — и вот уже вся нация требует войны. Есть такие периоды в истории, когда нации не могут удержаться от самоистребления. Мария-Антуанетта не остается в стороне. «Министры и якобинцы принуждают короля объявить войну Австрийскому королевскому дому, — пишет она Ферзену. — Богу угодно, чтобы это случилось, тогда мы смогли наконец отомстить за весь тот ущерб, который нам причинила эта страна!»
Пока папаша Дюшен надрывает глотку на улицах Парижа, крича: «Война! Война, мать вашу, если вы хотите мира!» — Ферзен посылает Марии-Антуанетте хорошие новости с фронта: «Вчера я получил известие о том, что объявлена война, и оно меня несказанно обрадовало… Король Прусский на это решился, и вы можете на него рассчитывать. Императрица посылает нам 6 тысяч человек…»
Война, начавшаяся в разгар Революции, была воспринята всеми почти с облегчением. Нечто похожее ощущалось позже, в период якобинского террора, хотя террор был более серьезным нарушением привычного хода вещей.
Рубя головы сотнями и тысячами, топя в крови вандейский мятеж, предоставляя Робеспьеру осуществлять свои бредовые мечты о высшей революционной чистоте, Революция, казалось, все быстрее соскальзывает в примитивную жестокость, в неконтролируемое дикарское буйство. Некоторые считают, что Террор нарушил динамику Революции, ввергнув страну в анархию, но на самом деле произошло как раз обратное: Революция и Террор были первыми ростками организованной деятельности, направлявшей революционную жестокость в определенное русло, и первыми шагами к усмирению народа, впавшего в безумие.
Какая мука — думать о смерти Людовика XVI, его жены и сестры как о способе умиротворения нации. Однако именно такое видение событий возникало у Анри по мере того, как он углублялся во все детали этой истории.
Читать дальше

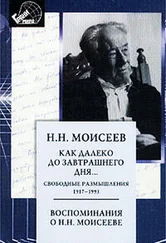



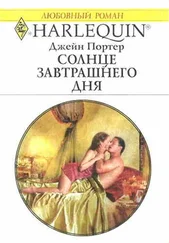

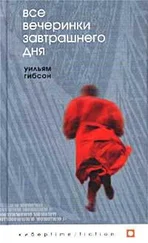

![Светлана Рощина - Небо завтрашнего дня [litres самиздат]](/books/436859/svetlana-rochina-nebo-zavtrashnego-dnya-litres-samiz-thumb.webp)