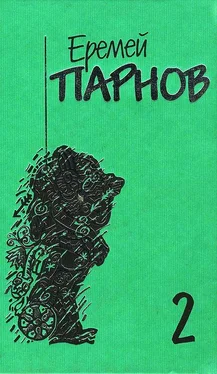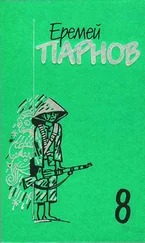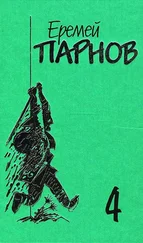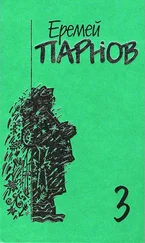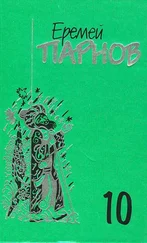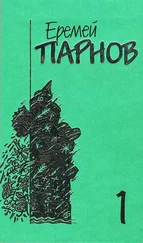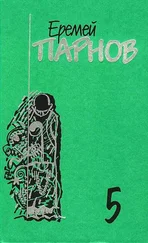Староста послушно наклонился, поднял гирьку и завернул ее в шелковый платок. Где ему, простому крестьянину, было понять могущественного колдуна? С раннего детства он только и знал, что работать и повиноваться. Его научили почитать будд и юдамов, лам [52] Лама — дословно означает, «выше нет».
и князей, солдат и отшельников. Он отдавал им все, что дарила скупая, обильно политая потом земля, и благодарил, когда они брали. А брали почти всегда. Князь и солдаты требовали еще и еще, боги равнодушно принимали подношение и молчали, ламы вели себя, как боги. Но случалось, что ламы отвергали дары. Иногда, чтобы накормить голодных, даже раздавали посвященные буддам жертвы. Не оттого ли Шакьямуни вознес их превыше всего, поставил над самими богами.
Получив назад серебро, он принялся униженно благодарить отшельника за щедрость. Но страх навсегда оставил его сердце. Кроткий, почтительный и суеверный крестьянин отныне никого и ничего не боялся. Он готовил себя к великому празднику перерождения. Как знать, может быть, и ему суждено когда-нибудь сделаться мудрецом, перед которым открыты концы и начала, кому дано вязать и разрешать?
— Больше тебе ничего не нужно? — спросил сричжанг.
— Ты приоткрыл передо мной ненаписанную страницу, добрый учитель. Чего мне еще желать? — Римпочен задумался. — Не оставляй нашу деревню, — попросил он. — А если подвернется случай, пошли землякам мудрый совет.
— Случай никогда не подворачивается. — В руке отшельника опять зажужжало хурдэ, вознося в небеса миллионы непроизнесенных мани. — Потому что случайностей не бывает.
— Тебе лучше знать, учитель.
— Но предопределение можно изменить, если кто-то согласится осложнить свою карму ответственностью. Ты согласишься, староста?
— Как прикажешь, мудрый.
— Я никогда не приказываю и ни о чем не прошу. Делай как знаешь. Если берешь на себя ответственность, не доискиваясь до ее сути, которую все равно невозможно постичь, я помогу вам.
— Хорошо, учитель. — Римпочен опустился на колени. — Беру.
— Да будет земля свидетелем, — пробормотал отшельник, опуская на холодный камень пещеры средний палец правой руки. — Клянись.
— Клянусь! — Римпочен последовал его примеру.
— Я трижды приду к тебе на помощь, — пообещал сричжанг, вынимая из уха золотой алун [53] Алун — мужская серьга в виде плоского кольца, которую носили в левом
с камнем, который налился в пыльных световых струях вишневой густотой. — Возьми себе. Когда вернешься на родину, позовешь.
— Я вернусь?
— Теперь вернешься. — Жестокие блики промелькнули в расширенных зрачках отшельника. — Но будь осмотрителен. Отныне ты и только ты отвечаешь за все последствия своих желаний…
Обратный путь Римпочен проделал словно во сне. Он позабыл про то, как покинул пещеру, как заблудился в Роще Радости и вышел к реке. Трудные перевалы мгновенно ускользали из памяти, едва он, закончив восхождение, бросал благодарственный камень в обо. Он даже не помнил, где и когда купил пару яков, навьюченных тюками с провизией. И лишь теперь, когда до деревни осталось рукой подать, Римпочен, пробудившись от странного оцепенения, удивленно оглядывался вокруг. Он действительно возвратился! Вот знакомая в ржавых железистых разводах скала, похожая на черепаху, вот родник и сбегающий в пропасть ручей! На дне ее, кажется, валялся выбеленный скелет яка, над которым многие месяцы кружил гриф. Так и есть! Белые полукольца ребер лежат на том же месте. Правда, их порядком завалило щебнем, но старый гриф тут как тут и, ожидая добычи, купается в восходящих потоках.
Римпочен вынул узелок с серебром и подивился тому, что не истратил ни единого лана. Откуда же взялись тогда яки, тюки? Или он встретил на обратной дороге свой караван? Пелена в голове, туманная красная пелена…
Ничего-то он не помнит, ничего не может понять!
Удушливую каменную пыль поднимают лохматые яки. Медленно, шаг за шагом приближается он к дому. Вот кремнистая тропа огибает знакомое дерево — столетний, искалеченный бурей абрикос. Тянутся в синеву лепестки полураскрытых цветков. Горные осы над ними так убаюкивающе гудят…
Срывались с обрывов лавины, обрушивались источенные водой ледники, огненные драконы вспарывали наполненное дождем небесное брюхо, а окаменевшее дерево, упорно цепляясь за скалу, залечивало раны, выбрасывало новые побеги весной. Это ли не вечность?
Сразу же за абрикосом открылся мэньдон, сложенный из серокоричневых сланцевых плит. На нем написаны мани и нарисованы вертикальные полосы желтых и красных уставных цветов. Потом показался и суровый, величественный, как сами горы, субурган, на котором застыл в небесном полете красный облачногривый конь — трудное горное счастье, которое никогда не прилетает само.
Читать дальше