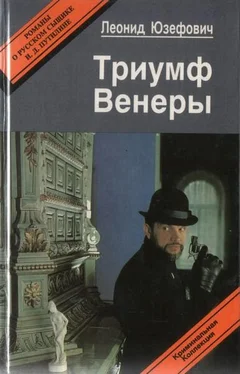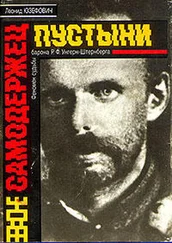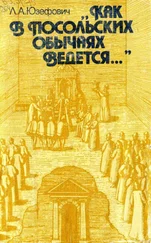— Ну-с, приступим, если отдохнули? — спросил Иван Дмитриевич.
— Я готов.
— Как там у Пушкина? «Бери свой быстрый карандаш, рисуй, Орловский, ночь и сечу…»
17
Черный ход был открыт. Вытянув перед собой руки, Иван Дмитриевич осторожно ступил в пахучую тьму, куда более родную и уютную, нежели казенный сумрак парадного подъезда. Пахло кошками, бак с помоями стоял на вахте у входа. Луну затянуло облаками, и свет из спальни Каллисто едва проникал сюда сквозь пыльные маленькие оконца. Не дурно было бы разжиться огнем. К счастью, он вспомнил, что не далее как вчера выкинул почти целую свечку, от запаха которой у Ванечки заболела голова. Из-за этого даже поскандалили с женой. Жена кричала, что она каждую копейку считает, а он их всех по миру пустит, пробросается такими свечами, но в мусорный ящик, слава Богу, не полезла.
Иван Дмитриевич поднялся к себе на третий этаж. Крышка на ящике прилегала плотно, так что мыши не сумели туда забраться и отомстить Ванечкиной мучительнице. Преодолевая брезгливость и убеждая себя, что все тут свое, морду воротить нечего, он стал копаться в мусоре. Ага, вот она. Спички нашлись в кармане. Иван Дмитриевич зажег свечку, прикрыл пламя ладонью и, как Прометей, похитивший с Олимпа небесный огонь, бесшумным, воровским шагом спустился по лестнице вниз.
Прежде чем приступить к делу, он снял свой цилиндр, чтобы не стеснял движений, повесил его на каком-то нечаянном гвозде. Достал кожаный чехольчик.
Эта куколевская дверь, в отличие от парадной, не устояла пред первой же из клювастых Фомкиных тезок. Добрым словом помянув Евлампия, что не ленится смазывать дверные петли, Иван Дмитриевич отворил ее и оставил приоткрытой на случай бегства. Шагнул в сенцы, оттуда — в кухню. Повеяло покойным домашним духом протопленной на ночь печки. На степе, как щиты на борту вражеской ладьи, в ряд висели тазы и сковороды. Они медным воинственным блеском ответили свечному пламени.
Никаких приготовлений к поминальному пиру заметно не было. Пол выметен, под ногами ничего не хрустит. Посуда прибрана, лишь стоит на столе тарелка с недоеденной лапшой и при ней надкушенный ломоть ситника, ложка и полураздетая луковица. Очищенным боком она стыдливо прижималась к тарелке, пряча свою наготу. Евлампий, видать, вечерял, а доесть не успел.
Иван Дмитриевич изучающе оглядел остатки лакейской трапезы. Несомненно, кто-то ее прервал — недавняя гостья, если она была, сама Шарлотта Генриховна, если никакой гостьи не было, или… Одна мысль сменялась другой, но желудок в этих умственных трудах участия не принимал. У него были свои заботы. Стоило только посмотреть на лапшу, как начинало томить слюной. И немудрено, с обеда ничего не ел, а дело к полуночи. Прямо пятерней Иван Дмитриевич сгреб с тарелки холодные скользкие щупальца, запихал их в рот. Некоторые просочились между пальцами на пол, но их он подбирать не стал. Прихватил хлеб, и, откусывая на ходу, пересек просторную кухню, невольно стараясь, как крыса, держаться поближе к стене.
Вокруг по-прежнему царила могильная тишина. Чем дальше, тем становилось очевиднее, что в квартире никого нет. Живых, по крайней мере. Но и мертвых, скорее всего, тоже. Мысли давно текли по руслу, проложенному Куколевым-старшим: может быть, это сам Яков Семенович ел в кухне лапшу, но услышал, как открывают черный ход, убежал и теперь где-то прячется. Вдруг?
Иван Дмитриевич вышел в коридор, прислушался. Тихо. Расположение комнат он примерно помнил, вернее, отчасти помнил, отчасти мог представить, какая по какому назначению используется. Прямо и налево — покои Марфы Никитичны, дальше и опять же налево — та комнатушка, где Семен примерял хозяйскую доху, за ней кабинет, гостиная. В самом конце коридора, видимо, детская. Там же, но направо, одна из двух расположенных по соседству дверей вела, должно быть, в спальню жены, вторая — в мужнину. Едва ли при таких отношениях супруги имели общую спальню. Ни в той, ни в другой Иван Дмитриевич, естественно, не бывал, но по логике вещей выходило, что спальни — там. Туда и следовало заглянуть в первую очередь. А в случае чего дунуть по коридору в кухню, на лестницу, во двор. Бог даст, не узнают в темноте.
Но со свечой в руке надежнее все-таки не соваться. Он покапал расплавленным воском на половицу возле плинтуса в коридоре, прилепил свечку и лишь затем заглянул в одну из спален. Чья она, мужа или жены, разбирать не стал, увидел несмятое покрывало и быстро прикрыл дверь. На кровати в соседней опочивальне оно было не светлым, а темным, но ложе и здесь оказалось пусто. Это, значит, спальня Якова Семеновича, а та — Шарлотты Генриховны. Поближе к детской. Но мимо детской Иван Дмитриевич прошел со спокойной душой. Трудно предположить, что отцовскую домовину поставили среди дочериных кукол. Он осмелел, сердце перестало трепыхаться у горла. Теперь можно было без особых опасений продолжать поиски той комнаты, где стоит гроб.
Читать дальше