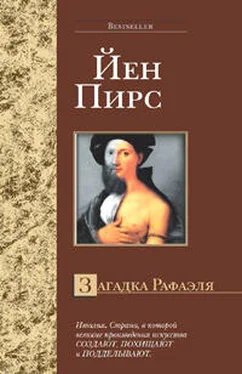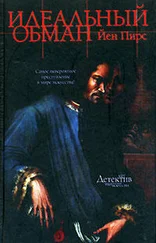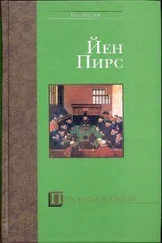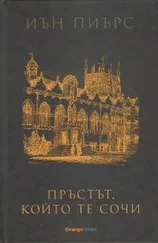«Дражайший брат, ты уже наверняка знаешь из „Газетт“, что мой супруг вернулся из своего путешествия к нашим берегам. Бог мой! Как он изменился! Куда подевался мой краснощекий спортсмен; теплый воздух Италии превратил его в настоящего ценителя искусства! Не могу передать тебе, как огорчает меня его новая страсть. Целыми днями он щеголяет во французских кружевах, а приказания слугам отдает, как ему кажется, на великолепном итальянском. Они его не понимают и, как обычно, делают, что хотят. Но хуже всего — его увлечение развязало ему кошелек. Мне кажется, он готов скупить всю Италию и вот-вот разорит нашу семью. Некоторые его приобретения уже доставили к нам; я намерена развесить их по самым темным углам, ибо, разглядев их как следует, любой гость поймет, что иностранные мошенники просто-напросто облапошили графа. Он обещал привезти картины лучших итальянских мастеров, но все это грубая мазня, обыкновенная дешевка. Одной лишь ценой его „сокровища“ приближаются к великим мастерам. Но последняя его выходка совсем из ряда вон: вот уже три недели они с мистером Пэрисом хвастаются по всему Лондону его главным приобретением — какой-то рухлядью, написанной одним из этих проклятых римских живописцев, выманивающих у него деньги. Мой муж говорит мне — самым загадочным тоном, — что я буду крайне удивлена, увидев этот шедевр. Признаюсь, меня уже вряд ли можно удивить сильнее. Кажется, он потратил более семисот фунтов на это сокровище. Я более чем уверена, что цена ему — от силы полкроны».
Далее леди Арабелла излагала местные новости, жаловалась на слуг и упомянула о смерти дочери какой-то дальней родственницы. Затем она снова вернулась к рассказу о муже, выплеснув на страницы письма весь накопившийся яд:
«Я много раз писала тебе, дорогой брат, о любовных похождениях своего мужа. Незадолго перед тем, как он отправился в путешествие, я застукала его с очередной потаскухой и закатила жуткую сцену. Когда я пообещала перерезать ему глотку, если он еще раз посмеет так унизить меня, кровь отхлынула от его щек. Мой дорогой брат, в тот момент мне казалось, что я сделаю это. Угроза возымела действие, и теперь он вынужден хранить мне верность. Но ты знаешь моего мужа, весь образ его жизни позорит наше родовое имя. Граф прибывает в Лондон через два дня. Попытайся представить, какой прием ему окажет твоя нежно любящая сестра, Арабелла».
— Ну, — воскликнул Аргайл, — каково?! Что вы об этом думаете?
Флавия пожала плечами:
— Граф Кломортон не вызывает симпатии. Что еще я могу об этом думать?
— Вы были недостаточно внимательны. Послушайте еще раз. «Проклятые римские живописцы» — это о Мантини. «Загадочный тон» — тоже подходит. «Семьсот фунтов» — очень высокая цена для того времени.
— Вы полагаете, речь идет о прибытии «Елизаветы». И что из того?
— Ну как же! Она пишет о «какой-то рухляди». На классических пейзажах часто изображают руины.
— Ну и?..
— Поверх нашей «Елизаветы» был «Отдых на пути в Египет». Странно, не находите? — Он гордо поднял голову, не сомневаясь в эффекте, произведенном его заявлением.
— Честно говоря, не нахожу, — равнодушно откликнулась Флавия. — Леди Арабелла могла иметь в виду состояние самой картины. Кроме того, мы же знаем: граф Кломортон получил подделку.
Аргайл ждал восхищения, но не контраргументов.
— О-о, я как-то не подумал об этом, — протянул он. — Но, — продолжил Аргайл, снова воодушевляясь; увидев, что Флавия достала сигарету, он дал ей прикурить и бросил обгоревшую спичку в пустой бокал из-под вина, — связующим звеном здесь является посредник, Сэм Пэрис. Он наблюдал за работой Мантини в Риме и за распаковкой картины в Лондоне. Если бы это была другая картина, Пэрис обнаружил бы подмену. Но очевидно, прибыла та самая картина, ибо граф Кломортон не сомневался в том, что все идет по плану.
Флавия задумчиво кивнула, однако не слишком уверенно:
— Ну хорошо, я готова принять такое допущение.
— Судя по всему, никто не заподозрил подмену до тех пор, пока с картины не сняли верхний слой. Таким образом, мы знаем теперь, что Мантини написал поверх Рафаэля руины.
Флавия поджала губы.
— Допустим. Но Пэрис мог быть в доле и потому согласился отправить другую картину. В конце концов, он был обычным торговцем, и я точно помню, что после этой истории он исчез. Любой уважающий себя полицейский расценил бы это как косвенную улику. А кроме того, в Национальном музее уже висит Рафаэль, признанный международной комиссией, и этот факт стоит дороже всех ваших аргументов. К тому же среди них нет ни одного достаточно веского.
Читать дальше