Я поворачиваюсь к рабби Лосе:
— Тогда почему вы не пустили меня, когда я приходил сюда раньше? Или не зашли ко мне домой? А потом, в микве , когда вы…
— Ты что, спятил?! Ты ломился ко мне в дом. У меня здесь больной ребенок. Каждому известно, что ты хочешь отомстить за своего дядю. А теперь, если ты… Постой… — Лоса пересекает комнату, снимает со стены тусклое зеркало и подносит его мне. — Смотри! — велит он. — Ты бы не сбежал от такого?
Из помутневшего серебра, при слабом свете свечей на меня смотрит перекошенное, страшное лицо, заросшее неопрятной щетиной, обрамленное спутанными грязными волосами.
— Вы правы, — соглашаюсь я. — Ну и видок у меня. — Я достаю из сумки портрет беспризорника, пытавшегося продать Агаду дяди. — Никто из вас не узнает этого мальчика?
Эсфирь-Мария изучает рисунок, склонившись к ореолу свечного пламени.
— Нет, — говорит она, передавая портрет отцу.
Он мотает головой. Обращаясь к раввину, я говорю:
— В таком случае, вы не помогали моему дяде вывозить книги? — Он вновь мотает головой, и я добавляю: — Поклянитесь в этом на Торе.
Он клянется, и в эту минуту Рахель начинает хрипеть во сне, словно в ее груди спрятаны порванные мехи.
— Могу я прикоснуться к ней? — спрашиваю я.
Лоса кивает. Пульс девочки бешено колотится в запястье. Ее лоб горит, но, как ни странно, она не потеет.
— Какие еще симптомы у ее болезни? — спрашиваю я.
— Она не может есть, — сообщает Эсфирь-Мария. — И у нее идет кровь из кишок, когда она…
Девушка наклоняется ко мне, и по ее выжидающему взгляду я понимаю, что своим любопытством нечаянно обнадежил ее.
— Это либо дизентерия, либо испанская лихорадка, — говорю я. — Передается через гнилой воздух и навоз. — На страницах моей памяти Торы возникают строки Авиценны. — Самшитовый чай с вербеной, и как можно больше, — начинаю я. — Ей нужна жидкость, чтобы ее организм очистился потом. И ставьте ей клизмы с мышьяком, разбавленным гранатовым соком и водой. Не переусердствуйте с ядом. Нескольких капель вполне достаточно. — Лоса смотрит на меня поверх кончика своего приплющенного, совиного носа таким взглядом, который мог бы заставить чесаться даже пророка. И все равно, после всего, что случилось, его поза кажется мне больше смешной, нежели оскорбительной. — Приберегите свои глупые взгляды для субботних служб, — советую я ему.
— Больше не будет служб, — печально отвечает он. — Никогда.
— Как и следовало ожидать, — ухмыляюсь я.
— Да что ты знаешь?! — орет он. — От чего ты отказался, кроме еврейского имени?! Ты давал клятву в том, что ноги твоей не будет в синагоге, если Господь убережет нашу общину? Ты отказался от самого дорогого, что у тебя было? Да что ты знаешь о жертвенности?! Тебе было всего одиннадцать. Да, я помню, как ты жался к отцу. А ты помнишь, как я бежал к баптистской купели. Ты никогда не спрашивал, почему? А твой дядя? Ты хоть понимаешь, что все это было ради того, чтобы уберечь большинство из вас от смерти, чтобы удержать вас от убийства собственных детей. Я составил пакт с нашим Господом: спаси евреев Лиссабона, и я приму обращение. Это было ошибкой? Кто может так сказать? Ты?! Или твой дядя?!
Лоса утирает рукавом слюну с губ, гневно глядя на меня горящими много лет скрываемой яростью глазами. К нему подходит Эсфирь-Мария. Гладя его по плечу, она шепчет:
— Успокойся, отец.
— Мой дядя мертв. Он уже ничего не может сказать, — отвечаю я спокойным сухим тоном, скрывающим злость. — И, будь я более добросовестным каббалистом, чем я есть, возможно, я не стал бы вас осуждать. В любом случае, ваши мотивы мне теперь безразличны. Только ваши поступки имели значение много лет назад и имеют значение сейчас. Я понял, что для таких людей, как мы с вами, дела гораздо важнее любых слов, пактов и произнесенных шепотом молитв. Для дяди, я думаю, это было иначе. Его молитвы призвали в этот мир ангелов. Для такого человека… — Я умолкаю: рабби Лоса, раздуваясь от ярости, отвернулся от меня. Разговор становится бессмысленным. Я дотрагиваюсь до плеча Эсфирь-Марии, чтобы привлечь ее внимание. — Мойте Рахель розовой водой, смешанной с отваром вербены и яичным желтком. И ради Бога, смените эти протухшие простыни. А еще лучше сожгите их!
Я поднимаю руку у нее над головой, благословляя ее.
— Моя сестра умрет? — спрашивает она.
— Только Он может ответить, — нараспев произносит ее отец.
Его благочестивый взгляд, устремленный в христианское небо, призван напомнить мне о жертве, которую, по его словам, он принес.
Читать дальше
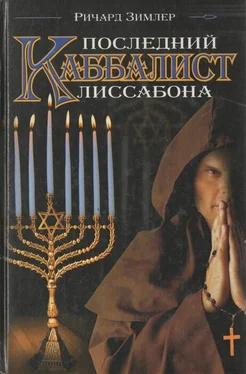


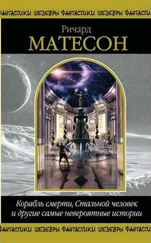
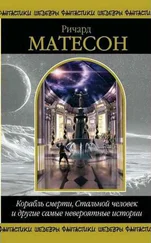


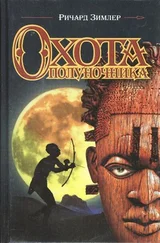

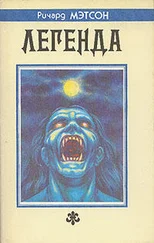

![Ричард Артус - Последний военный демократ [СИ]](/books/421040/richard-artus-poslednij-voennyj-demokrat-si-thumb.webp)
