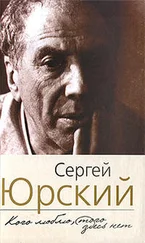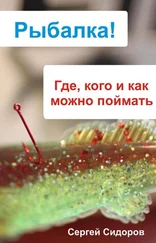1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Бабушка умерла в первую послевоенную зиму. До самого последнего часа бодрилась, а потом подозвала внука, положила руку на его плечо, притянула, поцеловала сухими губами: «Ты теперь главный, Миша».
Он и сейчас не понимал, как вытянул этот воз: завод, институт, больная мать… Сюда, в этот дом, привел он Таню. Познакомил с матерью, которая уже не вставала с постели. Сказал: «Мы решили пожениться, мама». Мать отвернулась к стенке, пряча слезы.
Через два года родился сын. Назвали его Володей, в честь деда Михаила Митрофановича. Мать счастливыми глазами смотрела на внука. А полгода спустя она уснула и не проснулась. У мертвой, у нее было удивительное, совсем незнакомое лицо: страдания оставили ее, и она лежала в гробу умиротворенная, красивая.
В 63-м Кочергины получили двухкомнатную квартиру в новенькой «хрущевке». Тогда их клепали по всему Союзу. Из коммуналки Михаил Митрофанович уезжал без сожаления: друзья еще раньше разъехались по окраинам, где, как на дрожжах, поднимались новостройки. Работы было по горло, и мало-помалу он стал забывать и этот дом, и этот переулок.
Вновь очутился он здесь в начале восьмидесятых при расследовании простенького дела: в соседнем доме что-то не поделили отец и сын, оба законченные алкоголики. Отпрыск оказался проворнее, пырнул папашу столовым ножом…
Потом он от случая к случаю бывал здесь. Никогда не приезжал специально, но, оказавшись поблизости, вот как сегодня (сказать по совести, он потому и поехал к сторожам сам, а не послал Никитина), Кочергин не упускал возможности заглянуть в переулок, постоять перед все более ветшающим домом. Прошлое придвигалось. Он вспоминал родителей, бабушку, вспоминал свою юность. Вспоминал танцы во дворе под патефон и запах листвы по весне. Это была его жизнь, переписать которую заново он не мог да и не хотел.
Под ногой скрипнуло разбитое стекло. Затянутый в корсет строительных лесов, дом был окружен забором из горбыля. Табличка на заборе извещала, когда будет завершен капитальный ремонт. Тут же был плакат, наглядно демонстрирующий, как будет выглядеть здание в недалеком будущем.
Кочергин внимательно изучил рисунок. Башенки-то зачем? Хотя, конечно, красиво. Даже очень. Но это уже не его дом.
Он пошел прочь. В Управление. На работу, хотя мог бы поехать домой. Но у него было дело. Он не хотел его откладывать.
Кочергин шел, а прошлое, как и положено, оставалось позади.
* * *
Этим вечером с автобусами творилось черт знает что. Может, то были отголоски – по «принципу домино» – вынужденной паузы, взятой общественным транспортом из-за состоявшего днем митинга. Но Кочергин дождался. Не было у него другого выхода – на своих двоих не доковылял бы.
Он сошел на конечной остановке и перевел дух: «Дома».
Ключ никак не влезал в замочную скважину. Дверь открылась без его помощи.
– Услышала, как ты гремишь. – Жена вытирала руки о фартук. – Иди ужинать.
Михаил Митрофанович опустился на табурет под вешалкой. Сбросил ботинки. Откинулся, утонув спиной в мешанине пальто и плащей. Он шевелил пальцами ног, ни о чем не думал, отдыхал.
– Ты идешь?
Поставив перед мужем тарелку и чашку с чаем, Татьяна Васильевна вернулась к плите.
– Больше не хочу, – сказал Кочергин, проглотив две ложки манной каши. – Не сердись. – Он заискивающе улыбнулся.
– Если бы я колбаски копченой нарезала, ел бы и нахваливал. Но ведь нельзя тебе!
– Я и не прошу. Находился просто. Ничего не хочу.
Руки жены легли ему на плечи.
– Миша, ну зачем ты все сам и сам? Нужен человек – вызови в Управление. До пенсии считанные дни, а ты носишься по городу, будто молодой.
Объясняться с женой Кочергину не хотелось.
– Володя дома? – спросил он.
– У себя.
Перед комнатой сына Кочергин остановился, испытывая доселе неведомую потребность постучать и осведомиться, можно ли войти. Одернул себя и вошел без стука.
Володя лежал на кушетке с книгой в руках.
– Привет.
– Привет.
Кочергин прошел к письменному столу, сел в кресло, посмотрел на сына и споткнулся о его вопрошающий взгляд. Он почувствовал себя неловко, как человек, который сознает, что неинтересен собеседнику, но по тем или иным причинам не может оставить его одного.
– Что читаешь?
– Хемингуэй. «Фиеста».
– А-а… Коррида. Солнце. Любовь. И герой импотент. Лишний человек. Слабый.
Глаза сына сузились. Он будто решал: стоит ли отвечать? Но сказал:
– Он не слабый, папа, Джейк Барнс – мертвый. Ему так кажется. Что его убили на войне. Но он ест, пьет, ходит, говорит, в общем, живет, а значит он – сильный. Не знаю, как бы я повел себя, окажись на его месте – на собственных поминках.
Читать дальше