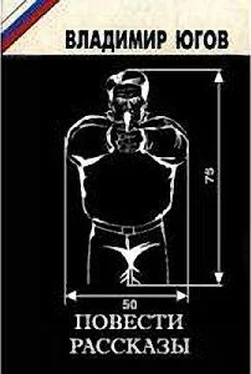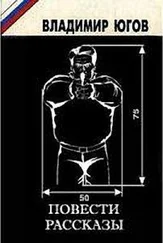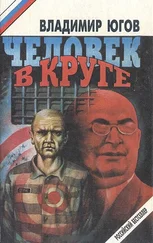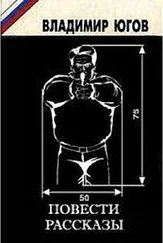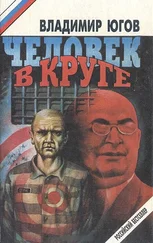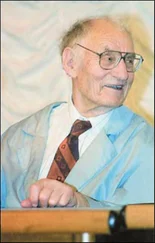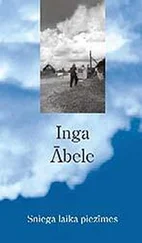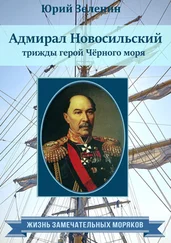Так он долго, шажками-шажками скорыми, ходил по комнате, бегал, думал, ругая все. И ругал себя. Спал он плохо. Снилось ему, как брата бьют подонки. Их там много. Романов вскакивал, кричал. В комнате он был один: мама, слава богу, была на дежурстве в своей больнице. Не расстроится! Сегодня он пришел в родительский дом поработать над диссертацией. Поработал!
Благодарю, — сказал он кому-то под утро, — за все благодарю! За то, что я такой… Такая сволочь!
Не понял! — возразил кто-то в нем.
И не надо. А я благодарю. За все. В общем — за все. А конкретно благодарю этого адвоката, маму, всю жизнь. И в частности всех за… За новую службу? За премии? За высокую зарплату? За новую мебель? Нет, Боярский, ты сам дурак. Дурак. Ты вот доктор наук. Легко тебе кричать, бить в грудь. Ты там был всякий раз свидетелем!
Гордий не сдержал слова — обещал Романову больше не приходить. Вновь явился. Желтое, болезненное его лицо еще больше, кажется, пожелтело. Сам он высох, стал меньше. Будет теребить душу. Заговорит о Боярском. Конечно, знает, что Боярский был тут. У этих адвокатов нюх собачий. Боярский, не добившись от Романова ничего, побежал к адвокату. А куда ему еще бежать? Он признался, что адвокат, которого терпеть не мог, в общем ничего.
О Боярском и завел разговор Гордий. Боярский в единственном числе желает брату Романова счастья. Остальные друзья — вроде их и не существовало.
— Спасая друга, подставляет иного? — ухмыльнулся Романов. — Может, Доренков в отличии от Дмитриевского устоит перед новым Меломедовым, верно?
— Неверно. Не надо паясничать. Боярский тут ни при чем. На Доренкова он показывает лишь потому, что это опровергает виновность вашего брата.
— Топи ближнего!
— Я был у вашего брата…
— Я догадался, — перебил Романов. — И как? Успешно?
— Нет, не успешно.
— Вот видите!
— Брат вас считает самым мужественным и храбрым. Вы брали на себя он это помнит — его вину. Тянули на бытовую драму. Он забыл, что вы на суде перестали ему подыгрывать. Он считает, что вы самый мужественный человек, которого он встречал. «Не побоялся назвать меня трусом, а брата своего самым мужественным», — сказал мне недавно один человек. Это их бригадир.
— Вы, конечно, иного мнения?
— Да, иного.
— Я по-вашему трус?
— Отъявленный.
— Со слов Боярского?
— Почему вы так считаете? У меня собственное заключение.
— Я не иду на уговор брата?
— Да.
— А вы шли на смерть за кого-то?
Гордий тихо произнес:
— Ну, конечно же, шел.
— Это было, естественно, в войну?
— Да, в войну, Романов. Я шел за вас, за Меломедова, за Дмитриевского. Идя за вас, я шел за правду, за великое дело освобождения людей…
— Мы не оправдали ваших надежд? И я, и мой двоюродный брат Дмитриевский?
— Да, вы оказались слабыми, очень слабыми.
— Но вы знаете, почему?
— Знаю. Вас воспитывали мамы. Любящие, занятые. И у вас, и у брата погибли отцы на войне…
— А Меломедов? Он…
— Он самый из вас отъявленный трус. Факты и фактики сами лезли. Вдруг сбежалось: «Он, Дмитриевский!» Он это продвигал. Увидев ложь, он трусливо спрятался, боясь ее признать. Из вас он самый страшный. Хотя, хотя… Погодите! А вы-то? Вы-то, что же, не дрались на улице? Не защищали себя? Вы, что же, давали себя положить на лопатки?
Романов положил голову на ладони, закачал головой.
— Смешно, смешно! Кто вы? Человек! Выбили мне будущее. Я, Иван Семенович, уже работаю. Ну пусть отсижу еще. Они же все против нас будут. А он, брат? Он опять струсит?
Романов заплакал.
— Самое ужасное, наверное, во всем этом, — тихо добавил, захлебываясь, как мальчишка, слезами, — это любящие нас женщины. Матери и настоящие жены! Вы понимаете меня?
Гордий кивнул головой:
— Только не самое ужасное, — поправил он, — а самое прекрасное.
Через два дня они вдвоем посетили Дмитриевского. Гордий правильно рассчитал: только этот человек, всю дорогу беспокойно ерзавший на скамейке электрички, может спасти его подзащитного.
— Гордий говорит, алло! Меломедов?
— Да, это я.
— Меломедов, как дела?
— Вы — как официальное лицо спрашиваете? Или как сочувствующий? Если как сочувствующий, то, по правде говоря, неважные мои дела.
— Вы этих, Долгова и Сурова, отпустили?
— Неважные мои дела. Вернулся только что из района. Убрал могилку… Что еще? После вашего отъезда чуть не запил, Иван Семенович. Я понял, что вы поняли…
— Ты что, меня не расслышал?
— Слышимость раздолье… От чего, спросите, чуть не запил? От… бесконечной радости! А радость откуда? От вашего друга Басманова! Под его неусыпным надзором, под непрерывным его бдением я подумал-подумал, взвесил все еще разок, взвесил и отпустил, Иван Семенович, этих заробитчан. Так у вас на Украине говорят?
Читать дальше