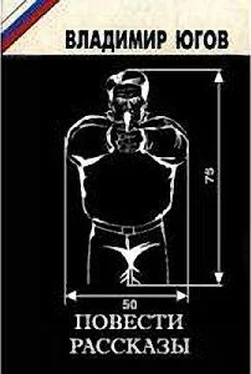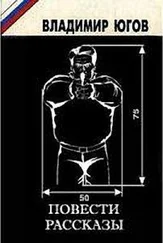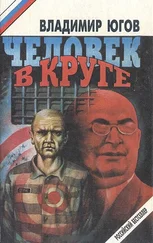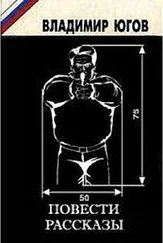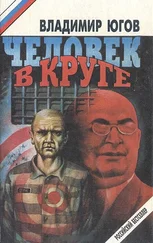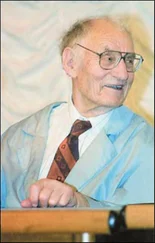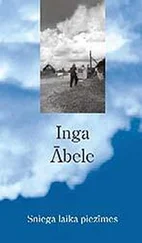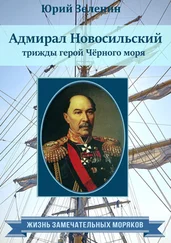Гордий, когда узнал, ухватился за идею. Но он твердо сказал, что Романов не пойдет на это. Надо сделать так, чтобы он не особенно… Иначе его тоже посадят.
Романова забрали с лекции. И продемонстрировали признания Дмитриевского, записанные на магнитофонную ленту. Эта лента крутилась всем свидетелям. В том числе, и Романову. Поначалу он хохотал. Дмитриевский?!
— Ну что ты хохочешь? — осклабился следователь. — Парню вышка уже. Он карабкается… А ты — хахоньки! Мило!
— Так что мне, признавать то, чего не было?
— А ты думал — как? Гляди, дядя Дмитриевского, твой родственник, говорит, что знал Дмитриевский Иваненко. И ты еще подтвердишь… Так и вышки не станет. Подумаешь, полтора года отсидки! Я, что ли, придумал такие наши вонючие законы? По ним лишь можно увести от вышки!
Какая подлость! Посадить и брата! Из-за того, чтобы вышки не было… Пусть, пусть! А брат? Он талантлив, ученый, — пытался успокоить себя, найдет применение своим знаниям, все будет хорошо. Но он сразу понимал, что хорошо уже не будет. Брат ему не простит. Сам впутался в историю, впутал в эту гадкую историю и его!
Тогда шел к машине, мелькали лица родственников. И они были рады — не расстрел. Они еще не понимали, что Пианист ни в чем не виноват. Каждый из них думал: так же не бывает, что не виновного вовсе сажают на много лет, и он не протестует! Лишь кричал Боярский! Он все орал ему вслед что-то такое, что заставляло Дмитриевского еще больше каяться, еще больше переживать.
Сегодня Сыч сказал:
— Ай, минет! Бабки будешь отхватывать — угу! Рюмок завались тоже. Научишься снимать, как их там зовут, стрессы! Я, к примеру, приду с бабками. Закажу тебе нашу «Сны!» Ничё не пожалею! Заплачу в крик! Воли мне не видать! И это будет, Пианист, для тебя праздник. Видишь, подумаешь ты, Сыча начальник колонии не мог вывернуть! А я душу ему вывернул наизнанку. Музыка, Пианист, она все могет!
Это было сразу после концерта. Сразу после концерта Пианист чувствовал себя особенно отвратительно. Дело в том, что когда он музицировал, из зала ему увиделось лицо брата. Вина перед ним преследовала его, кажется, даже во сне, по письмам он знал: тому приходится после освобождения нелегко. Он попытался, Пианист, написать Романову: прости, мол! Ни ответа, ни привета.
Он всегда успокаивал себя. Жалко тебя, Гарик. Конечно, поломал я тебе жизнь. — О себе уж и не думал. — Но не расстрел, Гарик! Помнишь тех троих? Ведь ставили к стеночке. А чем мы лучше? Все сбежалось на нас. Поставили бы — конец. Ты плохо говорил о следователе. Но он же и не скрывал: может, даже и пятнадцать лет. Зато — не вышка. А эти все старперы… Вы же не виноваты! Вы же говорите так! И что? Много лет. «Но не стеночка!»
Он так пытался всегда себя успокаивать. Но эти проклятые концерты особенно этот последний — поднимали в нем вину, душа плакала, он в себе кричал: «Почему? Почему?»
Он не был виноват. Потому он так и кричал сам себе.
Он лежал, свернувшись калачиком.
Все ушли на телевизор. И бригадир ушел туда же.
«Сильный мужчина!» — Дмитриевский закрыл глаза. — Нет, ты слабый, если завидуешь, когда я иду на свидание. Ты всегда думал: я убийца. Какая несправедливость, — думал ты, когда меня вызывали на свидание. — Я, мол, не убийца, а меня не вызывает любимая женщина. А ты убил, к тебе ходят, тебя любят. Меня же забыли! «Сильный мужчина!» Самый сильный мужчина на свете — Гарик, мой двоюродный брат. Когда он понял, что мне грозит расстрел, он наступил на свою карьеру, наступил на себя, стал подыгрывать мне, доказывая, что произошла всего-навсего бытовая драма. Вот кто сильный мужчина! Ты, бригадир, ставил на быструю руку опоры электролиний, хотел выскочить вперед. Ты ходил всегда в передовиках, ты боялся, что у тебя отнимут звание лучшего… Нет, не я трус, который защитил свою жизнь. И Гарик не трус, приняв игру. Мы не трусы. А ты — трус. Это поймет и Гарик. Я ему растолкую!»
Жаль только: этот старик-адвокат все копается. Возьмет и отправит Гарика снова в тюрьму. Они же «докажут», если возьмутся за нас! Они нам так докажут, что всем покажется, что мы убивали не только Иваненко, а что убили еще с десяток. Они теперь горой, один за одного. Сколько их, они же сгрудятся в стаю, крыло к крылу, станут на защиту. Ведь, если они не докажут, — им крышка, их надо сажать всех. И они ради этого нас не выпустят, они носом землю станут рыть, чтобы только доказать, как мы с Гариком виновны. Но, бригадир, ты не сильный, если не можешь скрыть, что был несчастным, тебя за это не любили и не будут любить. Нечестных не любят женщины! Моя жена чувствует, что я не виноват. Если бы она знала, что я виноват, — она бы не пришла ко мне…
Читать дальше