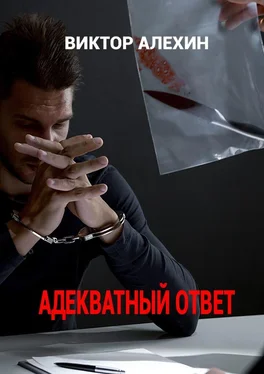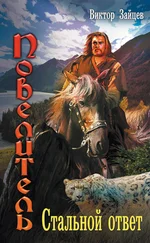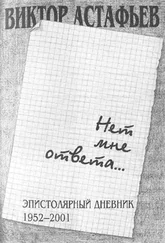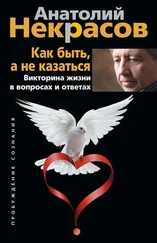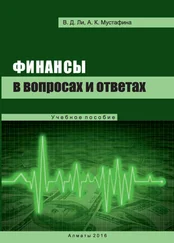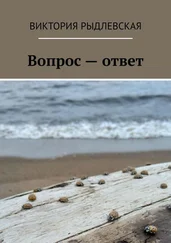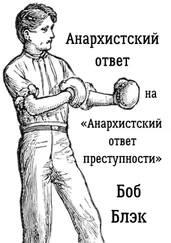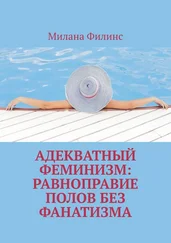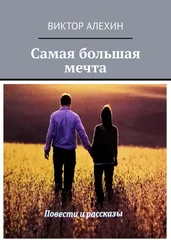– Руководство Управления по борьбе с преступностью поставило перед нами большую и нелегкую задачу. Кстати сказать, у нас не бывает легких задач, – сделал он маленькое, но красноречивое замечание. – Эти задачи вы знаете. Мы с вами о них уже говорили. В сущности, задача одна – раскрыть преступление. Нам всем было указано, чтобы преступление было раскрыто в самые кратчайшие сроки и во что бы то ни стало. Даже любой ценой, – сказал он явно для того, чтобы показать, что руководство само не знает и не понимает, что говорит. – Что значит во что бы то ни стало? И что значит любой ценой? – повторил он требование высокого руководства. – Руководство горит желанием как можно быстрее отчитаться перед еще более высоким руководством о том, что тяжкое преступление успешно раскрыто, – тихо сказал он и снова обвел своим взглядом подчиненных ему сотрудников отдела. – Но я, откровенно говоря, не понимаю, что значит раскрыть преступление во что бы то ни стало и любой ценой.
– Тут все ясно, Евгений Николаевич, – подала голос следователь Суворова. -Это значит, что мы должны как можно скорее, впопыхах, найти фальсифицированные улики, выдуманные, скороспелые, одним словом – псевдоулики. И на основании таких псевдоулик мы должны объявить обвиняемому, что он убил человека. Ведь так можно невинного ни в чем человека сделать виновным и отправить его на нары, за решетку. Подобное у нас можно сказать не так уж и редко бывает.
– Вы правильно сказали, Ирина Матвеевна. Руководство подгоняет нас, сказав, «быстрее, во что бы то ни стало»… Но мы, конечно, не пойдем по такому пути. Принцип «любой ценой» я отметаю. Мы работаем и будем работать, как говорят, не покладая рук и не жалея своих сил. Работать, конечно, надо, и мы все заинтересованы в том, чтобы поскорее раскрыть преступление. Но дело в том, что от нас многое, даже очень многое не зависит. И мы с этим ничего не можем сделать. Наше расследование будет объективным. Иным оно и быть не может. Улик у нас практически нет никаких. Что вы сделали за последние дни? – спросил полковник и, придвинув тетрадь к себе, прочитал в ней последние записи.
– Евгений Николаевич, – тихо, но не разочарованно сказала Ирина Матвеевна, – если говорить о серьезных уликах, при помощи которых мы можем объявить нашего предполагаемого преступника, у нас пока нет. Что у нас сейчас есть? Мы знаем, где работает наш так называемый «предполагаемый», знаем его фамилию, знаем, где он учился, в каком институте.
– Какой он институт окончил? – спросил полковник.
– Пединститут, физвос. Я беседовал с деканом факультета, – сказал опер Кругликов. – И с тренером, который готовил студентов по лыжам. Он хотел уже уходить домой, и я чудом его застал у декана.
– Ну, и что говорят о нем? – спросил полковник.
– Отзыв самого декана и тренера по лыжам не лестный. Одним словом, ничего хорошего не сказали. Правда, он увлекался спортом, особенно лыжами.
– А как человек, личность? – спросила Ирина Матвеевна.
– Очень злой.
– Прямо так и сказал?
– Да, прямо так было сказано.
– Кто сказал? Декан или тренер?
– И тот, и другой. И еще что? – интересовалась следователь.
– Мстительный, задиристый, драчливый. Тренеру не понравился его взгляд. Подозрительный какой-то, вроде подстерегающий. Агрессивный, вспыльчивый. Так декан сказал. Декан запомнил это, хотя этот человек окончил институт три года назад. Запоминающийся взгляд.
– Довольно характерные признаки, – сказал полковник Миловидов. – И такими признаками наделены довольно многие люди. Независимо от национальности, образования, вероисповедания и так далее. Об этом говорят психологи, психоаналитики, социологи, биологи и представители других наук. Спросите любого невропатолога – он вам то же самое скажет. Это генетические признаки, врожденные. Они не поддаются лечению. И сам человек как бы ни хотел от них избавиться, сделать это не в силах. Правильно подмечено в хорошей русской пословице: что сделано в гузне, не переделаешь в кузне. И, как говорит практическая жизнь, именно такие люди больше всего склонны к преступлениям. В том числе к тяжким преступлениям. И не только склонны, но и совершают их при стечении определенных обстоятельств. Как зовут нашего предполагаемого субъекта?
– Баклажанов Василий Омарович, – сказал Цыплаков.
– Так вот, этот Баклажанов Василий, как его отчество?
– Омарович, – повторил Цыплаков.
– Так вот, наш Омарович из этой категории людей. Он, как явствует из рассказа декана и тренера, тоже страдает многими генетическими изъянами, врожденными изъянами, от которых страдают нормальные люди. Откуда берутся все эти врожденные признаки? Как гласит наука, человек в процессе эволюции, длящейся не один миллион лет, вышел из животного мира. Дарвин говорил, что все мы произошли от обезьян, хотя верил в Бога. Богословы и просто верующие упрекали его в этом, мол, веришь в Бога, а сам несешь такую несусветную ересь. Ученый разводил руками и говорил в ответ, что обезьяны слишком похожи на людей, люди – на обезьян. Сейчас многие религиозные философы, служители церкви говорят, что, видимо, тело человека, его материальная оболочка есть действительно продукт длительной органической эволюции. Но разум дан человеку Богом, Творцом. И вот посмотрите на людей, генетически искореженных, изувеченных этой органической эволюцией. В них есть многие признаки животного царства: алчность, жестокость, злоба, мстительность и многое другое. Все это от животного мира, в том числе и от хищного. Из древних, очень древних эпох гены пришли через многочисленные поколения людей. И теперь от них передаются по наследству. Можно сказать, – продолжал развивать свои взгляды полковник, – что в результате длительной органической эволюции гены от животного мира дошли и до современных людей.
Читать дальше