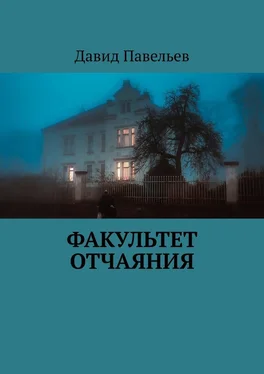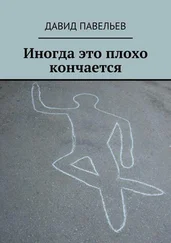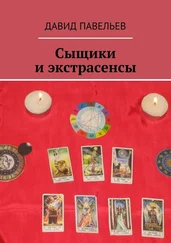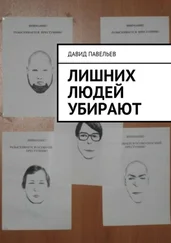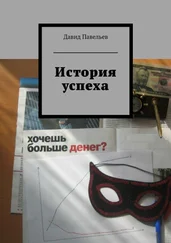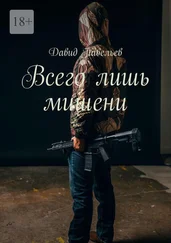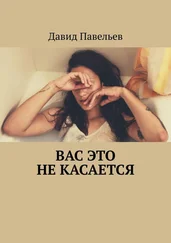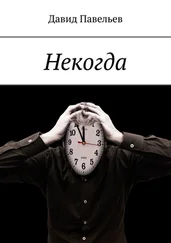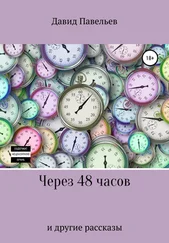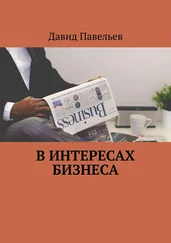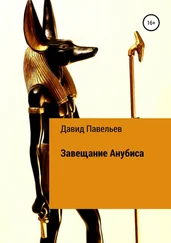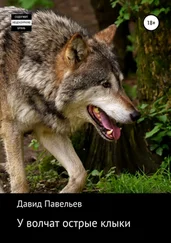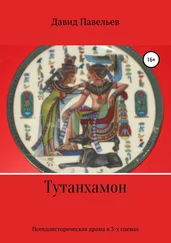– Клавдия Семёновна, а я к вам, – приветствовал её Проклов. – Да не один, а с гостями.
– Ишь ты! Небось генерала целого приволок, – отозвалась буфетчица с наигранной сварливостью.
– Клава, не позорь нас перед людьми. Не генерал, но эксперт-криминалист. Васю Полякова разыскивает.
– Ах, батюшки! Сейчас я вам всё организую. У нас тут, конечно, не ресторант, но заведение приличное. Есть греча с подливой. А может, картошечки?
– Благодарю вас, Клавдия Семёновна. Но я не голоден, и объедать студентов мне тоже не хочется. А вот компот, если есть, попью с удовольствием.
– Это конечно, всегда пожалуйста!
Она бережно наполнила две большие железные кружки светло-зелёной жидкостью и передала их через окошко Проклову.
– Это вам на здоровье, товарищ эксперт. Вы только паренька этого разыщите. Жалко его, малохольного.
– Обязательно.
Они расположились за одним из столиков. Русаков специально выбрал место с наилучшим обзором. Взглянул на часы и принялся ждать.
Звонок – череда сотен невидимых глазу ударов маленького молоточка по железным наковальням – взорвал гробовую тишину как сигнал тревоги. Но всё, как известно, вопрос восприятия. При определённых условиях и симфонию Бетховена можно услышать как Иерихонские трубы, а иногда и наоборот – эта неприятная для уха железная трель прозвучит как симфония. И в стенах института её, как ни странно, в основном так и слышали. Студенты, порядком пресыщенные пищей духовной, жаждали пищи обыкновенной, и звонок, сколь бы режущим слух он ни был, звучал как праздничный гимн, хоть перед лекцией тот же звук не вызывал ничего, кроме грусти и досады.
Студенты высыпали из аудиторий, как пробившие камни струи источника, и сливались в общий поток, несущийся к лестнице-водопаду, а за ним, запрудив фойе, впадавший в открытые двери буфета. Многие смогли даже разжалобить своих лекторов, чтобы те отпустили их пораньше, или хотя бы не задерживали после звонка. Таким везунчикам удалось опередить остальных и занять первые позиции в очереди.
Но Герман Вышеславский был не из тех, кого легко разжалобить таким банальным и низменным чувством, как голод. Никто и в мечтах не имел досаждать ему подобными просьбами, и дело было даже не в том, что он, как определила гардеробщица Фрося, «застращал» своих студентов. Вышеславский читал лекции с увлечением, забывая о часах, усталости и перерывах. Собственно, это и не были лекции в привычном смысле слова, а скорее рассуждения вслух. Он не просто перечислял теории и идеи мыслителей прошлого, не просто повторял концепции своих предшественников, хоть, разумеется, опирался на них, как и положено на академической трибуне. Вышеславский говорил лишь о том, что волновало его как учёного и человека, а так как всех нас, несмотря на видимые различия, заботит в сущности одно и то же, речи Вышеславского особенно казались животрепещущими. В такие моменты он смотрелся прорицателем, устами которого вещает божество. Это был своего рода экстаз, или транс, как говорят любители эзотерики. Его слушатели сознавали, что присутствуют при уникальном событии, потому думали лишь о том, как зафиксировать слова профессора, изрекаемые единым, неиссякаемым потоком сознания. Любой посчитал бы преступлением перебить его, да преступлением пострашнее всего уголовного кодекса. К тому же это и в самом деле было опасно – Вышеславский был вспыльчив, хоть и отходчив, и гнев его грозил исключением из числа посвященных.
Зачастую Вышеславский просто не мог остановиться и замолчать. Даже если мысль его и была уже выражена во всей полноте и не требовала уточнений, необходимых для корректного понимания аудитории, он продолжал развивать её, будто бы опасаясь обрубить её, как плодоносную ветку, которой ещё расти и расти – это чувство знакомо всем пылким и творческим ораторам.
Но звонок был механическим прибором, лишённым всякого трепета пред прославленным именем учёного, и потому зазвенел именно в то время, на которое был запрограммирован. Вышеславскому не без досады пришлось смириться с его неумолимой пунктуальностью. Дождавшись конца этой металлической трели, он всё-таки договорил те фразы, зародившиеся в его мозгу незадолго до того – он всегда импровизировал, но, как опытный импровизатор, всегда имел в запасе три-четыре предложения. Задумать новые фразы он уже не смог, звонок сбил необходимый настрой.
– Ладно, коллеги. Продолжим после перерыва. И помните, о чём я вас предупреждал, – сказал он и вышел из аудитории.
Читать дальше