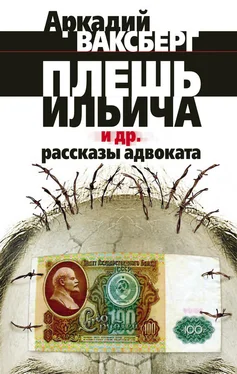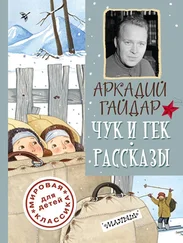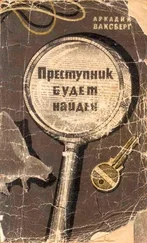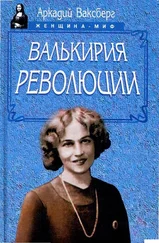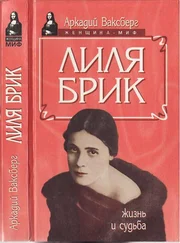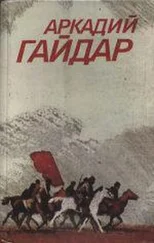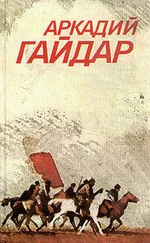Как жаль, что ленца, а в еще большей мере текучка, помешали мне сделать хоть что-нибудь, чтобы наш творческий треп имел продолжение. Со светлой печалью вспоминая Бориса, я тешу себя слишком лестной и гордой мыслью о том, что мы чуть-чуть не стали соавторами. И понимаю, что это мираж.
Совсем недавно, роясь в залежах своего архива, я наткнуловсем недавно, роясь в залежах своего архива, я наткнулся на затрепанную, со слипшимися под грузом папок листами, тонкую книжицу, о существовании которой, конечно, хорошо знал и на которую ссылался в прежних своих публикациях. А вот про то, что есть на ней автограф сорокалетней давности, почему-то забыл. Начинаю с него лишь потому, что нашел в авторской надписи важные для данной книги слова: «Покопайтесь поглубже в этой истории, и она украсит Ваши новые адвокатские рассказы. Лишь бы не прокурорские!»
Из надписи этой я понял, что она — отзвук моих первых очерков из адвокатской практики, опубликованных тогда в «Литературной газете». Автор же надписи (и, стало быть, найденной мною книжицы) ветеран «ЛГ», давно, к сожалению, покойный, Никита Яковлевич Болотников. Хорошо помню этого интеллигентного, старорежимного на вид бородача — известного в ту пору журналиста, его внимательный, поначалу казавшийся слишком строгим взгляд. Взгляд был, однако, не строг, а сосредоточен. Никита Яковлевич обладал редким умением не только говорить, но и слушать, настроившись на волну своего собеседника. К любому делу, за которое брался, относился с серьезностью и добросовестностью. С дотошностью, как любят порой выражаться газетчики.
Эта дотошность помогла ему собрать, обобщить и проанализировать огромный материал, к которому мы еще вернемся по ходу рассказа. Тогда и будет названа его работа, которую я отыскал в своем архиве. Вступление же это мне понадобилось лишь для того, чтобы объяснить, почему сюжет, строго говоря, не имеющий отношения ни к моей адвокатской практике, ни к практике моих коллег, тем не менее послужил основой для рассказа, завершающего эту книгу. Я просто прислушался к подсказке Никиты Яковлевича. Беспримерный сюжет (не рассказ, разумеется, а именно сюжет!) ни за что, я в этом уверен, не оставит читателя равнодушным…
Портрет, который лежит сейчас предо мной, можно назвать каноническим. Именно он вошел в книги, энциклопедии, справочники. Портрет человека героической биографии и легендарной судьбы.
Даже ничего не зная о том, кто на портрете изображен, можно сразу сказать, что перед нами личность сильная, крупная. Высокий, чуть нахмуренный лоб… Сурово сдвинутые на переносице брови… Проницательный взгляд… Добротная, элегантная «тройка», модно — по тем временам — закрученные усы, аккуратно подстриженная бородка клинышком выдают старого интеллигента. Трудно поверить, что человек этот образования не получил, эрудицией не отличался, и даже обычная, элементарная грамотность была у него, говоря мягко, не на слишком большой высоте. Впрочем, почему же — трудно поверить? Давно ведь известно, что подлинная культура оставляет свои следы на лице, а отнюдь не на лацкане пиджака. И духовность, глубина мыслей и чувств определяются вовсе не отметками в аттестате.
Имя этого человека есть на всех географических картах: им названы остров, берег, бухта и мыс. Его рукописи хранит архив Российской Академии наук. Его провидческие проекты продолжают осуществляться. Память о нем чтут не только на родине. Норвегия высоко оценила заслуги этого мужественного человека, отправившегося с риском для жизни по следам безвестно исчезнувших в ледяной пустыне посланцев Руаля Амундсена со шхуны «Мод» — матросов Петера Тессема и Пауля Кнутсена. С уважением и почтением отзывались о нем адмирал Степан Осипович Макаров, Фритьоф Нансен, Отто Свердруп.
Судьбе, однако, было угодно, чтобы имя его более чем на полвека оказалось связанным не только с тайнами природы, но и с тайнами криминалистики, а его смерть на берегу Ледовитого океана — со множеством темных слухов, которым пока не видно конца.
Выдающийся русский путешественник Никифор Алексеевич Бегичев отправился в последнюю свою экспедицию из Дудинки летом 1926 года. На этот раз цель у экспедиции была вполне деловая: не открытие новых земель, не подтверждение научных гипотез, не спасение попавших в беду полярников… А всего-навсего — промысел, добыча драгоценных шкурок песцов, охота на диких оленей и белых медведей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу