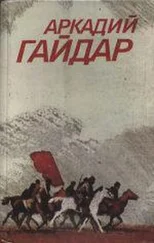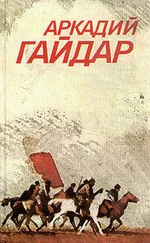Повторная медицинская экспертиза категорически установила, что смерть наступила не раньше, чем за три недели до обнаружения трупа, и что в момент гибели женщина беременной не была.
Наконец, оказалось, что хваленый профессор, составляя портрет по черепу, «пользовался для доделок» (так сказано в протоколе) присланными ему фотоснимками! То есть он заранее знал, кого ему нужно идентифицировать: чудная деталь, красноречиво говорящая о советском социалистическом правосудии, даже если оно имело дело отнюдь не с жертвами политических репрессий. Одного этого было достаточно, чтобы счесть профессорскую экспертизу беспардоннейшей липой. С тех пор никто не смог бы меня убедить, что портреты Ивана Грозного, Улугбека и прочих имеют какое-то отношение к оригиналу. Хорошо еще, если «доделанные» таким образом мистификации (не исторических лиц, а заподозренных в преступлении) никого не подвели под пулю. Или хотя бы в Гулаг…
Такова сюжетная сторона первого акта драмы. Но был еще и второй — с ничуть не менее интересным сюжетом.
Следователь Грязнов о том, что происходит с делом, которое было последним в его предвоенной практике, естественно, ничего не знал — про то, с каким треском оно провалилось в Верховном суде, притом не Республики даже, а самого СССР. То есть в самой высшей — последней — инстанции. В октябре сорок первого, мобилизованный, он был на фронте. Во время сильного артобстрела ему оторвало руку, лечился он в томском госпитале и там из писем родных узнал, что признанный невиновным Бурцев уже на свободе. Случай, к слову сказать, тоже редчайший: в подобных случаях, вопреки многовековой судебной практике цивилизованных государств, у нас подсудимого не оправдывали, осужденного — не выпускали, а отправляли дело на так называемое доследование, а человек, против которого не собрали достаточных для осуждения доказательств, продолжал — «на всякий случай» — томиться в тюрьме — авось, новое следствие чего-нибудь еще наскребет.
Грязнов же был убежден, что Бурцев виновен. Решение, принятое Верховным судом, убедило его в этом еще больше. Он вдруг осознал, в чем состояла ошибка. В том, что он решил, будто Аля убита непременно в тот самый день, когда исчезла. И только из этого исходил в своих расчетах. А ее — теперь он уверовал в это — Бурцев куда-то упрятал, дождался родов, увез на остров (мертвую или живую?) и оставил там труп.
Честно говоря, это была очень шаткая версия, еще менее вероятная, чем первоначальная. Она не выдерживала даже первых критических вопросов. Где бы мог Бурцев упрятать Алю за такой короткий срок (несколько часов)? Разве что она сама зачем-то укрылась вполне добровольно по сговору с ним. С какой стати? От кого? В честь чего, втайне родив ребенка, вдруг поехала с ним купаться на остров? Куда делся ребенок? И когда он родился? Ведь Бурцева арестовали, когда и месяца не прошло после исчезновения Али.
Все это было очевидной фантазией, но Грязнов, которому теперь предстояло возвращаться к прежней, мирной профессии, загорелся своей идеей и был готов раскручивать дело заново. Там, где происходили события, послужившие основанием для возбуждения дела, уже шли бои. Не прокурорско-судебные, а куда пострашнее. Ни от дома Бурцева, ни от дома Али и Зины, ни от тех домов, где жил и работал Грязнов, ничего не осталось. А однорукий следователь маниакально рвался на место того происшествия, стремясь во что бы то ни стало доказать — с поправочным теперь уже коэффициентом — свою тогдашнюю правоту. Ведь Аля и в самом деле исчезла. Ведь чей-то обезглавленный труп и в самом деле нашелся. Как же может быть так, чтобы никто не ответил — ни за то, ни за это, пусть даже «то» и «это» нечто различное, а не одно и то же.
Во время очередной бомбежки или артобстрела, точно не помню, его ранило. На этот раз довольно легко. Впоследствии его рану и сочтет Зина покушением на убийство — в отместку будто бы за упорство в розыске преступника. Любопытный штришок, свидетельствующий о том, как рождаются и распространяются слухи.
Найти в Волгограде мне почти ничего не удалось. Там жили уже другие люди, мало кто помнил события четвертьвековой давности, а если и помнил, то совершенно другие — куда более страшные. И все же некий навар я с этой поездки имел. Кто-то из старожилов про мой поиск узнал, и перед самым отлетом в Москву мне принесли письмо от инвалида войны Полунина. Сам он жил в трехстах километрах от города и передвигался с трудом. Письмо очень сумбурное и, мягко говоря, не в слишком большом ладу с элементарной грамматикой. Понять однако же можно. Лучше его не цитировать, а кратко изложить в пересказе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу