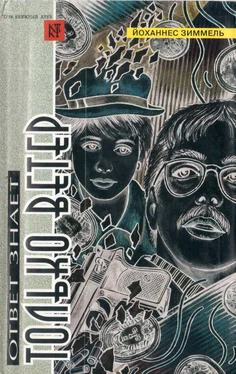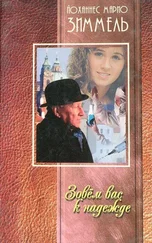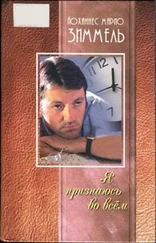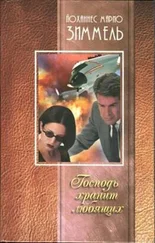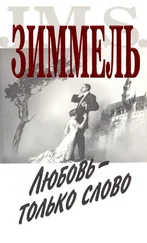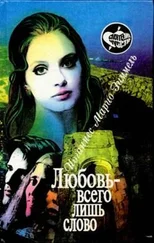Я еще не отчаялся. И от ампутации не умирают. Большей частью. Но бывает и иначе. Все равно. В моем случае это все равно. Деньги. Две жены. Разница в возрасте с Анжелой. Даже если бы сегодняшнего дня не было. При такой разнице в возрасте еще и инвалид. Нет-нет, Бог знает, что делает, все правильно, говорил я себе. Как тебе ни больно, постарайся это понять. Да-да, я понимаю, я все понимаю. У меня даже уже нет сил еще шесть месяцев безумствовать, переворачивая с ног на голову все, что имею, в погоне за какой-то иллюзией счастья. Буду пить. Распутничать. Играть. Нет, решил я, и какой-то полный покой снизошел на меня впервые после многих часов раздумий, ничего подобного я делать не стану. А постараюсь довести до конца и как можно лучше порученное мне дело, в конце концов «Глобаль» вполне прилично оплачивает мои усилия. К тому же работа поможет мне все перенести — утрату Анжелы, одиночество, ожидание операции. Что будет потом, поживем — увидим. А теперь — ложись-ка спать, сказал я себе. И я лег, но уснуть не смог. Безвыходность положения угнетала меня. Я ворочался с боку на бок и проклинал все на свете — свою жизнь, Анжелу и самого Господа Бога. Знаете, одно дело — вести себя разумно, спокойно и делать вид, что ты этакий супермен, способный вынести все. И совсем другое дело, когда лежишь в постели один-одинешенек и нет рядом никого, кто бы с тобой поговорил, нет близкого человека, и вы одни в чужом городе, где у вас нет своего дома, вообще ничего нет. Нет даже последнего, что может человек потерять, нет надежды. Да, это совсем другое дело.
Малкольм Торвелл медленно выбирал подходящую биту, примерялся и так и этак, прицеливался, не торопясь, взмахивал битой над головой и бил по мячу. Мяч пулей летел над площадкой с ухоженной дерниной — местность здесь была довольно холмистая.
— Недурственно, — удовлетворенно сказал Малкольм Торвелл. Он был одет излишне элегантно — рубашка из китайского шелка, узкие темно-серые льняные брюки и яркий шелковый платок в вырезе рубашки. Он двигался по-женски и говорил мягко, певуче и мелодично. Мы направились к четвертой лунке, поблизости от которой упал мяч. Слуга, совсем еще мальчик, следовал за нами с тележкой, на которой лежал мешок с битами и мячами Торвелла. Веснушчатому юнцу было никак не больше четырнадцати. Он говорил только по-французски. Мы с Торвеллом беседовали только по-английски.
Это было во вторник, тринадцатого июня, в половине девятого утра. Я еще раньше позвонил ему домой, так как знал, что он ежедневно играет в гольф в живописной местности под Муженом, причем именно рано утром — из-за жары. Он заехал за мной в «Мажестик» на своем «бентли». В эту ночь я спал от силы полчаса, но чувствовал себя бодрым и свежим. Об Анжеле и ноге, которую придется ампутировать, я вообще не думал, даже ни разу не вспомнил. То, что я сейчас написал, ложь.
— Он очарователен, не правда ли? — Торвелл оглянулся на мальчишку, тащившего за нами тележку, и улыбнулся ему. Мальчишка радостно заулыбался в ответ. — Я в совершенном восторге от этого юнца. А он — от меня. Ходит за мной, как пришитый, больше ни за кем. Влюбился в меня. Милый паренек. Эти его веснушки — просто прелесть, верно?
— Да, — согласился я. — Просто прелесть! — Я успел рассказать Торвеллу все, что услышал от Зееберга — его версию насчет поведения Хельмана во Франкфурте и его предположение о том, что произошло здесь, в Каннах, и заставило Хельмана покончить с собой. И теперь спросил его: «Вы верите в его версию?»
— В какую версию?… Ах, да. Нет, я в нее не верю. Да что вы, мистер Лукас, было бы абсурдно поверить! Хельман столько лет проворачивал такие сделки с нами — я хочу сказать, с нами и Килвудом в роли нашего представителя. Он был крепкий орешек, этот Хельман. Боязнь потерять свою репутацию? Внезапные укоры совести? Ну, знаете! Вы не знакомы с банкирами. Их не так-то легко запугать. У них крепкие нервы.
— Значит, вы не верите в самоубийство?
— Нет, — бросил Торвелл через плечо. Он шагал, виляя бедрами, я шел рядом, и хотя мы шли быстро, я не отставал: нога не давала о себе знать. — Я по-прежнему думаю, что было совершено убийство.
— А почему понадобилось убить Хельмана?
— Этого я не знаю. Но все говорит в пользу этой версии, — я имею в виду все, что произошло после его гибели. Ведь вы видите: каждого, кто чересчур близок к этому делу, кто мог бы что-то выдать, как например, вконец спившийся бедняга Килвуд, каждого, кто вероятно что-то знал, как этот Виаль или эта медсестра, убивают. Следовательно, должен существовать и убийца. Логично предположить, что и Хельмана убил он же. И теперь защищается. Я слышал, даже на вас было совершено покушение.
Читать дальше