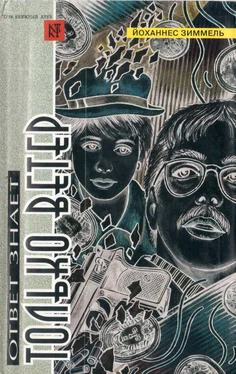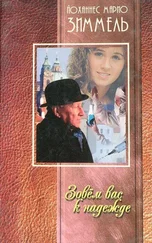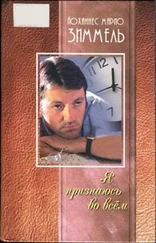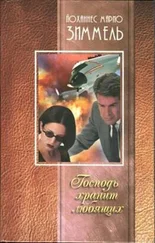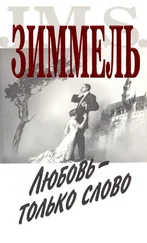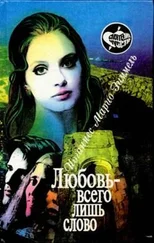Президент полиции сказал, к моему изумлению:
— Благодарю вас за эти слова, мсье Лукас. Господа, отныне мы все в конечном счете — подчиненные мсье Тильмана.
— Который никогда не станет своевольно злоупотреблять вверенными ему полномочиями, — тихо произнес Тильман, на что Лакросс ответил презрительным сопением.
— Вы все продолжите свои расследования, — сказал президент полиции. — Но координировать свои действия будете только через мсье Тильмана.
— Тогда у меня сразу будет вопрос к мсье Тильману, — сказал Келлер. — Думается, он мучает всех.
— Какой же именно, мсье? — спросил Тильман.
— Именно тот, который никто из нас пока не мог выяснить, поскольку тут все следы начисто смазаны. Считается, что господин Хельман отправился на Корсику, чтобы в Аяччо встретиться с деловыми партнерами. — Тут я заметил, что губы у Тильмана слегка дернулись. — Эти деловые партнеры никому из нас не известны. Очевидно, они жили в частных домах и после встречи с Хельманом тут же уехали. Кто были эти деловые партнеры, мсье Тильман?
— Французские промышленники, — без запинки ответил дипломат.
— Что за промышленники? Их фамилии? Где они сейчас?
— Этого я не имею права вам сообщить, мсье Кеслер, — заметно понизив голос, ответил Тильман.
— А почему? — озадаченно протянул Руссель. Он был так удивлен, что даже растерялся.
— Потому что мое министерство запретило мне это кому-либо сообщать, — сказал Тильман. — Во всяком случае сейчас; могу лишь заверить вас всех, что эти промышленники не имеют никакого отношения к серии преступлений или каким-то другим нарушениям законов.
— Следовательно, их надобно от всего ограждать, — сказал Лакросс.
— Именно так, мсье, — подтвердил Тильман.
— В интересах нашей страны?
— В интересах всех стран, — парировал Тильман. Он пробежал глазами по лицам сидящих за столом. — Мне очень жаль, что наша работа начинается таким образом, но я ничего не могу изменить. Есть еще вопросы?
Вопросов ни у кого не было. Совещание закончилось. Все начали выходить из конференц-зала. Неожиданно я оказался рядом с Тильманом. Он тихо сказал, обращаясь только ко мне:
— Благодарю вас, мсье. Прежде всего за то, что вы поддержали меня словами, в которые сами не верите.
Мы шли по длинному коридору, направляясь к выходу.
— Какими словами? — не сразу понял я.
— О справедливости. Которая в конце концов всегда побеждает. Вы действительно в это верите?
— Нет, — ответил я. — А вы, мсье?
— Я тоже, — сказал Гастон Тильман, и его лицо, казавшееся таким приветливым, вдруг словно погасло.
Когда я приехал к Анжеле, в ее мастерской на стульчике сидела маленькая девочка в красном платьице. Анжела поцеловала меня. На ней был белый халат, весь измазанный красками, и шлепанцы. Рыжие волосы она подвязала повыше широкой лентой, а очки на цепочке свисали ей на грудь.
— Погляди, — сказала Анжела еще в прихожей и протянула мне левую руку с обручальным кольцом, сверкающим бриллиантами. — Это самая ценная вещь, какая у меня есть, какая у меня когда-либо была в жизни. — Потом она протянула мне правую руку. — А теперь погляди на это, — сказала она. Тыльная сторона руки была покрыта ровным золотистым загаром, от светлого пятна не осталось и следа. — Это чудо, — сказала Анжела. — И его совершил ты. Ты сам — самое большое чудо в моей жизни.
Мы пошли в мастерскую, и девчушка при виде нас встала, сделала книксен, подала мне ручку и поздоровалась.
— Это Джорджия, — сказала Анжела по-английски. — Ее папа снимает в Голливуде грандиозные фильмы. Он знаменитый продюсер. А сейчас приехал сюда с дочкой отдохнуть.
— Только мы с папочкой, — сказала Джорджия, усаживаясь на стульчик. — Ведь мы с мамочкой развелись, ты знаешь? — Она сложила ручки на коленях и серьезно посмотрела на меня.
— Мне очень жаль, — сказал я.
— Мне тоже, — кивнула Джорджия. — Но в то же время и весело! Полгода я живу у папочки, полгода — у мамочки. Это же весело!
— Даже очень, — рассеянно поддакнул я, подходя к Анжеле, вернувшейся к мольберту. Портрет был почти закончен. Голова девочки была написана на фоне туманных очертаний игрушечной лошадки. Мне невольно вспомнилась моя сицилианская лошадка, вся разукрашенная шелковыми шнурами и блестками, оставленная мной на полке моего номера в «Интерконтинентале» вместе со слониками.
— Душевная черствость, — вдруг серьезно произнесла Джорджия. — Так мамочка сказала про папу. На суде. И в газетах так было написано. Ведь я уже умею читать. Душевная черствость — это что-то очень плохое, да?
Читать дальше