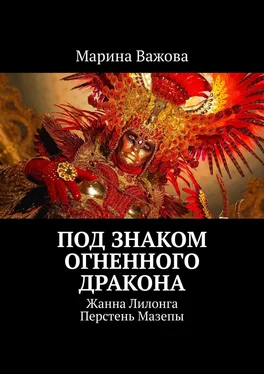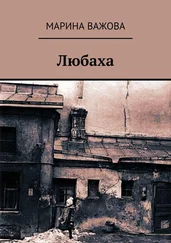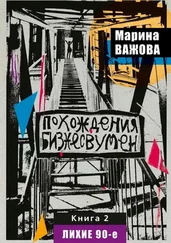Его направляли к одиноким старухам, те, как правило, ничего из народного не помнили, зато много рассказали ему о войне, об оккупации, о своей молодости, которая как будто совсем недавно бросала их на комсомольские стройки, наполняла дни работой, а ночи ожиданием. Они радовались добровольному слушателю, и Грине каждый раз стоило больших трудов продолжать свой путь, зато отказа в ночлеге и еде он не знал.
Да всё это уже не волновало. Какая-то часть его организма явно отмерла, по крайней мере он почти не чувствовал грудины под ключицами. Днём это почти не беспокоило, но с наступлением ночи загрудинная мёртвая тишина наполнялась тревожными звуками: мокрым шлёпаньем, бульканьем, всхлипами и стонами, хрустом раздавленного стекла, в котором теперь он без труда узнавал звук выстрела.
Ещё не отключившись, но уже теряя связь с окружающим миром, Гриня привычно входил под своды цветущей яблони, открывал бесконечные двери, которые – все как одна! – вели не туда, вглядывался в белые маски лиц, подвешенные под потолком. Вокруг оживали усыплённые эфиром златоглазые бабочки, безбоязненно садились на лицо и руки, щекотали цепкими лапками, задевали бархатной оторочкой крыльев. Он тщетно искал комнату Жанны и хотя знал, что её больше нет, это не являлось убедительной причиной для прекращения поисков: ведь так уже бывало, ведь он уже находил её неподвижной и холодной, а потом встречал вновь.
Надежда на встречу казалась Грине не менее обоснованной, чем приход лета, которое, наконец, наступило, а вместе с ним стала отходить, оживать пустота в груди. Был конец мая. Преодолев автостопом более трёхсот вёрст, уже под утро он очутился на автобане, ведущем к Питеру, до которого оставался какой-то час езды. Но бессонная ночь давала знать, и Гриня прилёг на скамеечке в придорожной беседке, подложив под голову рюкзак. Оглушительно в предутренней тишине выщёлкивали соловьи, и в какой-то миг Гриня понял, что сегодня он что-то узнает про Жанну.
Это понимание, как часто бывает во сне, сразу перешло в действие, и он, привычно согнувшись, прошёл под согнутой урожаем веткой яблони, неслышно отворил входную дверь, птицей пролетел под потолком коридора, а на повороте безошибочно, с первого раза нашёл тонкую филёнчатую дверку и легонько толкнул её. Так вот почему он не мог туда войти, – догадался Гриня, – все двери открывались наружу, а эта – вовнутрь!
Комната оказалась совершенно пустой, пронизанной розовыми лучами заходящего солнца, и даже от двери ему была хорошо видна записка, пришпиленная к выцветшим обоям булавкой с тусклой стеклянной головкой. Он направился было к этой записке, издалека различив на ней своё имя, но бумажный листок вдруг сморщился, затем развернул узорчатые крылья и, махнув ими прямо перед лицом Грини, вылетел в раскрытое окно.
Когда он проснулся и продолжил свой путь, настроение беспричинной радости и даже счастья не отпускало его. Гриня чувствовал себя готовым к новым испытаниям. И хотя знал, что Жанна мертва, продолжал ждать, как будто улетевшее во сне письмо, обогнув Землю, должно было найти его и всё разъяснить.
Вернувшись домой, Гриня застал мать в состоянии жесточайшей депрессии. Покрытый пылью ноутбук валялся среди засохшей, немытой посуды, Александр Сергеевич давно не появлялся и, если бы ни редкие визиты Ленон, Лиса вряд ли хоть что-то ела. Целыми днями она лежала, отвернувшись к стене, голос снова пропал, и по многим признакам было ясно, что смертельная болезнь, задвинутая до поры в дальний угол, вылезла и с остервенением, как изголодавшийся в спячке зверь, пожирает печень, лёгкие, превращая и без того постылую жизнь в страшную пытку.
Ненадолго спасали наркотические инъекции, и тогда Василиса оказывалась в родном селе Прудок, которое почему-то называлось Богуславское. Она шла обрывом по меловым горам, а вокруг до самого горизонта лежала степь. От травы пахло пылью и горечью. «Васечка-Лисичка хлеб припасла, всю ораву спасла», – звучал за спиной голос матери. И на грани пробуждения, с нарастающей, как сирена, болью, еле различала: «Добро не наше, мы лишь хранители. Как хозяин явится – сразу поймёшь. Ему и отдай». Ничего-то она уже не поймёт, а если и поймёт – отдавать нечего, а для чего тогда жить? Однажды утром Гриня обнаружил мать уже холодной, с остатками капсулок в руке, накопленных ещё во времена Валентина Альбертовича.
После похорон остались одни долги, денег катастрофически не хватало, и Гриня менял одну работу за другой. Был уличным продавцом – бегал по городу с сумками, назойливо предлагая всякую дрянь: дешёвые книги, батарейки, презервативы, поддельную туалетную воду; занимался продажей славянских оберегов, рассылкой духовной литературы, подрабатывал в ларьках грузчиком.
Читать дальше