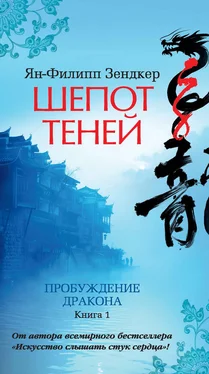Тан огляделся по сторонам, как ребенок, который никак не может решить, в каком направлении ему бежать, и двинулся вниз по Лексингтон-авеню, то и дело вытягивая шею то вправо, то влево и не зная, в какую сторону смотреть. Время от времени он останавливался, но напиравшая сзади толпа толкала его дальше. Он зачем-то свернул на Пятьдесят первую улицу, пересек Мэдисон-авеню, потом Парк-авеню, посредине которой росли цветы, несколько раз поскользнулся на поливочных шлангах и каких-то бумажных коробках, нырнул под козырек ближайшего дома и замер в восхищении.
Тан не мог налюбоваться на ровные ряды улиц с мигающими огоньками светофоров, на сверкающие на солнце стеклянные фасады башенок-домов, на мчащиеся мимо автомобили и доверху набитые товаром магазины, перед которыми время от времени выстраивались небольшие очереди.
Он почувствовал, как картина мира, созданная многолетними усилиями огромного числа людей, на его глазах превращается в ничто, испаряется, словно капля воды, упавшая на раскаленную плиту. Это был поворотный момент его жизни.
Тан понял, что его обманывали – с утра до вечера, день за днем, на протяжении тридцати лет. Его кормили сказками. Они воспользовались его простотой. Хитростью выманили самое дорогое, что у него было, – его доверие. Где сейчас эти учителя, партийные секретари и Большой Председатель со своими маленькими помощниками? Что бы они сказали ему на это? Как бы стали выкручиваться?
Тан вырос в вере, что ему посчастливилось родиться в стране, во всех отношениях превосходящей все остальные страны мира. Пусть ели они не слишком сытно, учителя рассказывали, каково приходится детям Европы и Америки, которые бегают по улицам, одетые в лохмотья, и чьи животы день-деньской урчат от голода. Как-то раз они на целую неделю отказались от школьных завтраков, чтобы голодные американские дети наконец поели вволю. «Пожертвуй Америке!» – так называлась эта кампания. Голодающие в Америке! И он участвовал в этом. И с каким рвением, с каким чувством собственного превосходства!
Тан верил им, когда в самом начале Великой культурной революции арестовали его отца, верного бойца Народной армии. «Что ж, – думал Тан, – и отец нет-нет да и попрекал партию и сомневался в ее деле». Тан верил им, когда его отправили в горы помогать крестьянам. И когда он в составе красной бригады боролся с контрреволюцией и буржуазными пережитками, нередко пуская в ход оружие. Он подчинялся им беспрекословно. И не из страха, а из искреннего убеждения. Потому что доверял, верил. Но сейчас, на улицах Манхэттена, ему вдруг пришло в голову, что доверие – это слабость. Оно для тех, кто не имеет в себе мужества признать ложь ложью и самому доискиваться правды. То есть не для него, не для Виктора Тана, который расточил его достаточно за свою короткую жизнь.
Разумеется, перед отправкой в США он уже знал: в том, что касается экономического развития и уровня жизни, Китай отстает и от США, и от европейских стран. В правительстве провинции Сычуань его на этот счет проинструктировали. Он изучал статистику, много читал и неплохо представлял себе картину в целом. И все же увиденное на улицах Манхэттена было подобно удару из-за угла, от которого он никак не мог оправиться. Тан понял, какое слабое представление дает статистика о жизни как таковой, и это его смутило. «Самая суть, – подумал Тан, – всегда заключена не в цифрах, а в словах и образах».
Первые месяцы в Гарварде оказались настолько трудны, что Тан всерьез усомнился в своих силах. Тихие, просторные аудитории, благородная красота старинных зданий пугали его. Профессора и студенты были с ним неизменно приветливы, но это лишь еще больше усложняло ему жизнь. Тана приглашали на обеды в городские квартиры и на загородные виллы. Когда он рассказывал о Китае, публика вежливо удивлялась, но Тан не встречал в их глазах ни искренней заинтересованности, ни понимания. Собственно, зачем им все это было нужно? В компаниях коллег Тан все чаще чувствовал себя бедным родственником, и здесь их приветливость ничего не могла изменить. Она, напротив, скорее усиливала это ощущение. В Гарварде Тан так и остался им чужим.
Однако прилежание, честолюбие и недюжинные способности работали на него. Тан дорожил каждой минутой и учился с такой одержимостью, словно на карту была поставлена судьба его семьи. Он впитывал знания как губка.
Так уж получилось, что первые тридцать лет жизни прошли для него даром. Тридцать лет, в течение которых его американские однокашники посещали детские сады, нормальные школы и колледжи. Все это время они играли во что хотели, читали и изучали то, что считали для себя важным. Целых тридцать лет, которые ему теперь предстояло наверстать!
Читать дальше