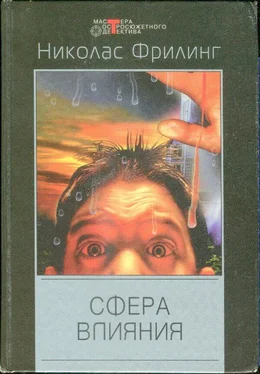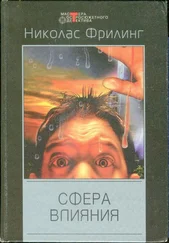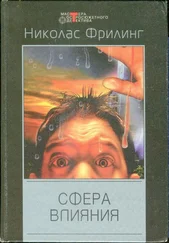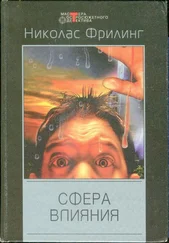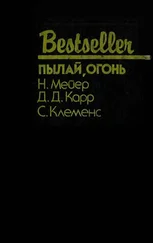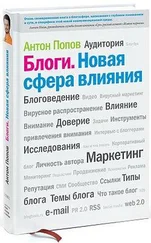Какие причины могли заставить человека сломаться? Я спрашивал себя об этом много раз. Вьетнамская артиллерия? Она, безусловно, очень способствовала тому, чтобы ослабить и подорвать наш дух. Вы скажете мне, что и у других офицеров случались нервные срывы под шквальным огнем, и я отвечу, что они командовали формально. Вы скажете мне, что сам Кастри, известный как человек храбрый и решительный, потерял… или казалось, что потерял, что одно и то же, свою волю и способность принимать решения. Кастри был опытным командиром, прекрасно воевавшим на открытом пространстве, и одной из самых ужасных ошибок было запереть его в той яме. Мы были брошены в этот ночной горшок, чтобы оставить там свои шкуры… да. Сегэн-Паззи, я сам и кавалеристы тоже.
Но Кастри… он был там, чтобы стать генералом. Что, между прочим, и произошло. Все мы были повышены в званиях. По представлению некоторых политиков — это способ поднять наш моральный дух. Звание! Да мы не носили никаких знаков отличия; солдаты и офицеры жили и умирали одинаково. Звание — это что-то, что было у них в Ханое, в Сайгоне… или в Париже. Для нас все сводилось к тому, что мы — солдаты и что нам предстоит умирать. Разве это ничего не значило для Лафорэ? Он был таким же хорошим офицером, как и наши офицеры. Из тех, кто скачет галопом, пока не упадет. Веселый, симпатичный, живой. Очень похожий на Пичели… того, который погиб… отбивая «Доминик». Бросили ли мы его?.. Если только ему пришлось сдаться вьетнамцам!
— Может быть, он верил в победу вьетнамцев?
— Еще чего! — простодушно рявкнул генерал с негодованием. — Разве хоть кто-то верил в победу вьетнамцев? Что, американцы, что ли, верили в победу Вьетнама? Посмотрите на невероятное количество допущенных глупостей, а потом посмотрите на ход борьбы. Еще в середине апреля, после почти месячной осады, после того, как была потеряна взлетно-посадочная полоса и ни один самолет не мог приземлиться, после того как «Беатрис», «Габриэль», «Анн-Мари» и «Доминик» сменили своих «любовников» — говоря языком того времени, — даже тогда еще сохранялся прекрасный баланс сил. Вьетнамцы были в том же состоянии, что и мы, — их лучшие силы были подорваны в борьбе за «Эльян». Они не могли больше воевать и перешли к осадной тактике — стали рыть туннели. Два свежих парашютных батальона — и мы бы прорвали кольцо. Как он мог поверить? Позже, тогда — да, возможно…
— Позже были другие.
— Да. Несколько. Разве не было важнее тогда, после капитуляции, после марша, лагерей, показать наше единение, нашу солидарность, нашу веру? Вьетнамцы пытались сделать все, чтобы сокрушить нашу веру. И им это удавалось… иногда.
— И в течение всего этого времени никто не поставил под сомнение легенду Лафорэ?
— Он слишком хотел выжить. И выжил. Его считали странным. Как и многих других. Никто не усомнился в его легенде. Возможно, — генерал положил обе ладони на стол, — возможно, мы посчитали это — потом — неслыханной гнусностью.
Ван дер Вальк осознал, что крепко держит окурок сигары, словно это было что-то драгоценное, и почтительно положил его в пепельницу. Трубка генерала давно потухла и достаточно остыла, чтобы ее можно было набить снова, что и делали сейчас тонкие пальцы. Глядя на эти пальцы, можно было подумать, что единственным трудом последних четырех поколений было набивать трубку, хотя лейкопластырь доказывал обратное. Он почти был уверен, что эти две грязные клейкие полоски были оставлены преднамеренно, для эффекта: маленький символ ранимости — и неуязвимости — парашютно-десантных войск.
Что он узнал из этих кажущихся такими нереальными фрагментов военной истории? Почему этот генерал уделил ему так много времени и почему генерал был таким словоохотливым? Не слишком ли прямолинейно и просто — подозревать, что его мучает чувство вины? Нет, если этот человек был замешан в чем-то сомнительном во времена Алжира, он не занимал бы сейчас свой пост. Но простое упоминание зловещего имени навело его на воспоминания о забытой теперь моде «в стиле парашютистов-десантников», периода 1958–1960 годов, когда изящные женщины в пятнистых платьях, покачивая бедрами, ходили небрежной походкой по улицам Парижа, словно говоря: «Мы те, кто атакует».
Комиссар понимал, что парашютно-десантные войска занимали какое-то особое положение, что бывали времена, когда они открыто не считались с законом, видя себя спасителями страны, нации, республики… и что один только разговор о Дьенбьенфу даже утонченного офицера-кавалериста, сидящего в парижском офисе, возвращал в тот котел. Он должен был позволить этому человеку выговориться. Генерал, как он чувствовал, уже вернулся в сегодняшний день и мог ответить на один-два простых вопроса, не исчезнув при этом в душных, тесных лисьих норах «Гюгета» и «Эльяна».
Читать дальше