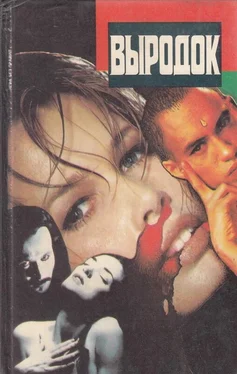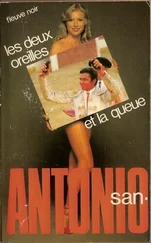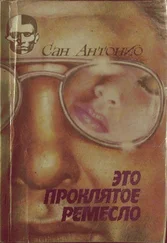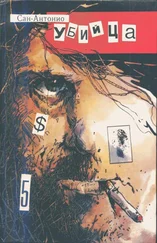Теперь, когда я все знал, мне отлично вспомнилось то странное гнетущее чувство, охватившее меня на ночной улице у театра, когда преследуемый обернулся. Он, казалось, не узнавал меня … Еще бы — ничего удивительного. Помнил я и другое странное ощущение, подступившее к горлу в тот момент, когда я спихивал труп в канализационную траншею. Ощущение было вызвано тем, что мой инстинкт, мои пальцы, мои нервы не признавали его. Да только я был слишком взбудоражен и ничего тогда не заметил.
Эмма была лишь послушным инструментом в руках этого супермошенника. Пока она готовила свое персональное алиби, Бауманн спокойно зарезал старика и растворился в природе, оставив труп на моей совести.
Когда я начал брыкаться на процессе, он не на шутку струхнул. Испугался, что я все разболтаю, чтобы уберечь свою голову, что труп его брата подвергнут повторному вскрытию — и тогда уж точно обнаружат подмену. И он придумал фокус с отравленными лакомствами. Их отнесла в тюрьму подружка Робби.
Перед такой великолепной махинацией мне оставалось только снять шляпу. Все было сработано по высшему классу. Получив деньги брата и наследство старика, они стали по-настоящему богаты и дожидались только развязки моего дела, чтобы спокойно поднять якорь. Но сообщение о моем побеге их порядком всполошило. Бауманн тотчас же понял, что я приеду в Сен-Тропез вымогать у Эммы деньги и мстить ей за обман. Они подготовились к моему приезду. И все действительно произошло согласно его предположениям, даже смерть Робби, которой Бауманн горячо желал. Робби был для него опасен: знал гораздо больше, чем нужно…
К несчастью для Бауманна, возникли непредвиденные обстоятельства…
Я торжествовал.
— Ты считал себя умнее всех, Бауманн. Ты казался себе королем преступного мира, человеком, которому удалось невозможное… Но на деле, как видишь, ты всего-навсего жалкий рогоносец.
Я решил, что он сейчас грохнется в обморок — до того он побледнел. Он поднес руку к груди.
— Так ты что, еще и сердечник? — спросил я.
Он отвел руку от груди — быстро, очень быстро. Она сжимала пистолет, такой же элегантный, как сам Бауманн.
Красивую американскую пушку для уважающих себя гангстеров. Может быть, подарочек почившего братца?
Я бросился вперед, крепко сжимая нож. Но когда добежал до него, было поздно: он уже стрелял в Эмму. Честь одержала в нем верх над осторожностью, и он начал с нее. Мужики — все сплошь идиоты. Жалкие придурки, которыми безраздельно властвует их собственное сердце.
У меня до сих пор стоит в ушах звук четырех выстрелов, которые прорвали стоявшую в комнате тягостную тишину. И короткий крик Эммы.
Потом она прошептала:
— Поль!
Потом умолкла: не очень-то много удается сказать, когда у тебя в груди четыре пули такого калибра. Я взмахнул ножом. На этот раз не было ни красного тумана, ни звона в голове. Движение моей руки было предначертано судьбой. Оно принадлежало не только мне одному: это через посредство человека совершалось неизбежное.
Бауманн остался стоять. Я выпустил рукоятку и дикими глазами смотрел, как она торчит перпендикулярно человеческой спине. Целую вечность картина оставалась неизменной и, казалось, застыла навсегда.
Наконец то, чего я с таким нетерпением ждал, произошло: Бауманн рухнул на пол.
Теперь уже ошибки не было: я укатал именно его. Он наконец получил свое.
Тогда я подошел к Эмме. Она тоже распрощалась с жизнью. Ее фиалковые глаза будто сразу выцвели и утратили былую загадочность. На лице осталась лишь сильная тревога и, как мне казалось, капелька любви ко мне.
— Эмма, — прошептал я, — Эмма…
Я все еще повторял ее имя, когда шагал по шоссе на восток, к итальянской границе.
Я знал, что на этот раз выкручусь, что все для меня сложится удачно, и целая куча народу только меня и ждет, чтобы благополучно протянуть ноги на бескрайних мировых просторах.
Я повторял «Эмма, Эмма» в такт своим шагам. И каждый раз слышал в ответ злобный скрипучий смешок судьбы.
Что ж, пусть попробует бросить мне вызов: я ее не боюсь. Ни ее, ни кого-либо другого.
Чтобы как следует себя в этом убедить, я остановился у придорожных скал, покрепче уперся ногами в землю, вызывающе уставился в небо — и запел.
Часть вторая
СВОИХ И ЧУЖИХ
На белом свете полно людей, которые мечтают увидеть Венецию, прежде чем лечь на два метра под землю и нюхать корешки одуванчиков.
Венеция была у меня перед глазами, но подыхать я не собирался. Совсем наоборот. Слишком уж я изголодался по жизни. А что может лучше утолить этот голод, чем вольный воздух Адриатики?
Читать дальше