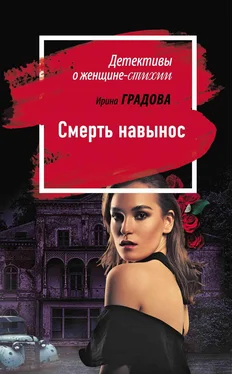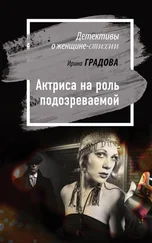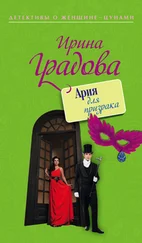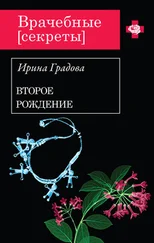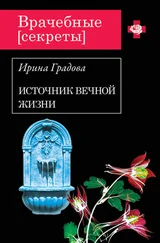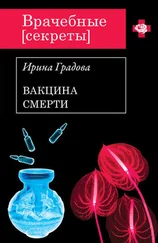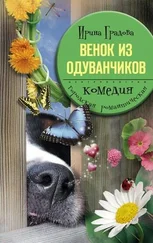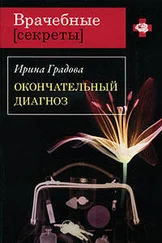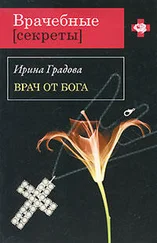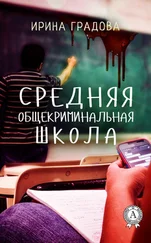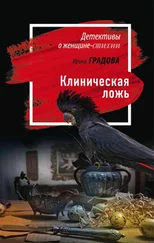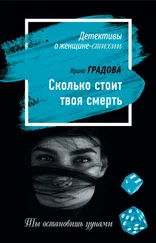— Вы действительно в это верите? — скептически поморщилась Алла.
— Люди говорят, — передернул плечами Гурнов. — И секрет таинственного порошка до сих пор не раскрыт, хотя есть масса предположений насчет того, какие ингредиенты в него входят. А вот в каких пропорциях…
— Похоже, тебя всерьез занимает этот вопрос! — рассмеялся Мономах. — Ты, случайно, не пытался воскрешать своих подопечных?
— Ты глупый человек, Мономах! — насупился патолог. — Говорят же тебе, что для воскрешения необходимо, чтобы клиент принял внутрь порошок — до, а не после смерти! А ко мне они уже холодненькими попадают.
Алла постаралась отогнать от себя видение, как покойники в мертвецкой по команде «бокора» Гурнова откидывают простынки и встают с металлических столов на колесах, выстраиваясь вдоль стенки в ожидании приказов руководителя.
— Это я про тетродотоксин рассказывал, но он — далеко не единственный среди интереснейших своих собратьев. Есть еще батрахотоксин, который на сегодняшний день считается сильнейшим токсином небелковой природы. Две крупинки данного вещества способны убить взрослого человека в течение пары минут: он в пятнадцать раз сильнее яда кураре и раз в десять токсичнее тетродотоксина!
— Но все дело опять же в дозе! — пробормотала себе под нос Алла. — И откуда же берется это чудо-юдо?
— О, это очень занимательно! — Глаза патолога зажглись фанатичным огнем. Алла невольно подумала о том, каким опасным мог бы оказаться человек, обладающий подобными знаниями, если бы находился по ту сторону зла. Гурнова определенно околдовывали все эти ужасные вещества! — Вы, верно, слышали о Dendrobates?
Пустой взгляд Аллы позволял предположить, что ответ отрицательный.
— Да слышали, слышали, — вздохнул Мономах. — Это такие древесные лягушки — мелкие, очень красивые и яркие на вид.
— Точно! — подтвердил патолог. — Собственно, из-за них яд и получил свое название: «батрахос» в переводе с древнегреческого означает «лягушка». Правда, в телах большинства представителей семейства этих земноводных вырабатывается слишком мало яда, чтобы считать их опасными для человека. Зато смертельно опасными считаются лягушки рода листолазов, обитающие в Колумбии. Они даже получили свое название, Phyllobates terribilis, или «листолаз ужасный»!
— Говорящее название! — вставил Мономах.
— Не то слово: в железах одной такой квакушки содержится доза яда, способная убить десяток взрослых людей! — подтвердил Гурнов. — Кроме листолазов, батрахотоксин в своем организме содержат и другие существа — к примеру, жуки из отряда мелирид, обитающие на островах Папуа — Новой Гвинеи, а также три вида птиц, дроздовые мухоловки питоху, голубошапочная ифрита и сорокопутовый дрозд. О том, что батрахотоксин содержится в коже и перьях гвинейских птиц, стало известно относительно недавно, а ядовитых жуков вообще открыли лишь лет десять назад. Точно не известно, почему птицы стали ядовитыми, но после обнаружения мелирид стали все больше склоняться к тому, что они не вырабатывают батрахотоксин, а лишь накапливают, питаясь этими самыми насекомыми. В этом есть рациональное зерно. Раньше считалось, что листолазы производят батрахотоксин в кожных железах так же, как жабы производят едкую слизь. Сомнения появились после того, как террариумисты научились разводить листолазов в неволе. Оказалось, что в домашних условиях, питаясь обычной пищей террариумных животных — мучными червями и сверчками, — листолазы утрачивают ядовитость. Молодые квакушки, недавно превратившиеся из головастиков, тоже не ядовиты. Со временем, после нескольких месяцев жизни в тропической сельве, эти лягушки становятся опасными, что касается и птиц: питоху и ифриты не всегда и не на всем своем ареале являются ядовитыми. К тому же у них в организме не были найдены железы, вырабатывающие яд. Однако идея о том, что батрахотоксин накапливается в организме птиц и лягушек, пока не получила подтверждения. В частности, в местах обитания древолазов до сих пор не были найдены насекомые, содержащие в своих телах батрахотоксин. Существует версия, что батрахотоксин синтезируется в организме листолазов не железами, а специальными бактериями-симбионтами, однако и это пока не доказано.
— Слушай, Левенгук [6] Антони ван Левенгук — знаменитый ученый-натуралист семнадцатого века. Ему принадлежит важнейшее изобретение того времени — оптический микроскоп.
, а нельзя ли покороче?! — взмолился Мономах, очевидно, устав по второму разу слушать о лягушках и жуках. — Ближе к нашим делам, а?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу