Конечно, ни один отец не хочет видеть на скамье подсудимых сына. Но только не хотеть — этого мало. Необходимо, чтобы каждый родитель, оставшись один на один со своей совестью, почаще спрашивал бы себя: «Все ли я сделал, чтобы сын мой был хорошим человеком?»
…Владимир Шевцов обожал своего отца. В свою очередь, Парфен Андреевич был доволен сыном, гордился его успехами. В пример его ставили в школе.
Так было до шестого класса. И вдруг… Как выстрел из-за угла прозвучала чья-то недобрая фраза:
— Вовка, чего ты их слушаешь? Они ведь тебе неродные!
Володя не поверил. Полез драться. А слух все полз и полз. «Неродной!» — говорили соседские ребята.
— Батюшки! — судачили кумушки у ворот. — Не кричит на парнишку — боится! На своего-то и прикрикнул бы, и подзатыльник бы дал, а чужого не смей!
«Неродной, неродной», — шептали вокруг. И захотелось Володьке узнать, где же его родные. Разузнал. И потянуло его в дом родной матери. В дом, где жили его сестры и братья.
Так и началось: если отец прикрикнет — уходит в другую семью. Жил на два дома, везде с ним заигрывали — боялись оттолкнуть.
Потом появились «дружки». Если перед ними Парфен Андреевич закрывал калитку, Владимир вел друзей в дом матери. Та принимала.
Вскоре «друзья» угнали автомашину. Володька попал в колонию. Когда вернулся, не захотел работать.
— Иди, сынок, устраивайся, — уговаривал Парфен Андреевич. А сын, лежа на диван-кровати, басит:
— Родного не посылал бы! А меня тебе жалко, что ли?
И опустились руки у Парфена Андреевича.
В шестнадцать лет Володька стал пить, бывать в ресторанах, встречаться с девицами нестрогого поведения. Словом, покатился вниз.
…Да, нелегкое дело быть отцом. И право носить это имя имеет не каждый. Ведь есть среди них и так называемые родные — платят алименты, живут спокойно в Тамбове, Воронеже или в Челябинске. Как живет сын, как учится, с кем дружит? Нет дела. Вызовут такого горе-папашу в суд, а он ухмыльнется:
— Меня-то зачем? Вызывайте мать! Она алименты получает, пусть и отвечает за него.
Имеет ли право называться отцом и тот, кто, как родитель Николая Ма́лина, крадет у детей детство?
…Сгорбился Парфен Андреевич, ночами не спит. Все думает, а не лучше ли было не заигрывать с парнем, не бояться, что уйдет к родной матери, а по-взрослому поговорить с ним:
«Разве тебе жилось хуже, чем кому-то из твоих одноклассников? Разве хоть раз я несправедливо поступил с тобой? Если плохо тебе у нас, иди к родным! Но раз и навсегда определи, где твой дом!»
Больно, если бы сын ушел, зато не сидел бы он сейчас перед судом.
— Уродство — нетипичное явление, и писать о нем не следует, — заметил редактор газеты, подняв на лоб массивные очки.
Когда Владимир Туманов узнал, что газета о нем писать не собирается, он даже обрадовался. И не потому, что скромен от рождения и не любит славы. Он знал славу, любил ее и когда-то с гордостью читал свое имя в газетах и на афишах.
Протянув редактору на прощание руку, украшенную золотым перстнем и ярким маникюром с черной каемкой под ногтями, он с апломбом поблагодарил:
— Мерси!
И, раскланявшись с величием короля, небрежно захлопнул дверь кабинета.
Редактор в явном замешательстве поморгал глазами, поднялся со стула и долго стоял у окна, пока не скрылись из вида широкие плечи, помятая шляпа и стоптанные туфли. Образ ушедшего геркулеса, бывшего артиста, бывшего художника, стоял перед глазами, отвлекая от важных дел.
А тем временем…
В ресторане, осушая очередной бокал, Туманов рассказывал случайному соседу о белых розах, которые преподносили ему благодарные зрители сперва в небольшом периферийном, затем в Московском Малом, потом в областном театре.
Низким, охрипшим голосом, блаженно прикрыв глаза и артистически откинув руку, он запел: «Были когда-то и мы рысаками…» Потом остановился и, задумавшись, долго глядел в одну точку.
— Я знал славу, — почти прошептал он. — Какие женщины преклоняли голову перед моим талантом!
И вдруг совсем трезвым голосом спросил:
— Вы не верите мне? Не лгите только. Знаю, не верите. Думаете: пьяница, обычный базарный пьянчужка. А в этом городе меня знали другим. Взгляните на картины, что украшают этот зал, что висят в вестибюле гостиницы. Моя кисть писала их. Взгляните на подпись.
И кто знает, был ли бы конец его рассказу, если б сосед не распрощался, ссылаясь на служебные дела.
Обедали и уходили люди. Каждый чем-то занят. Некуда было торопиться только Туманову.
Читать дальше
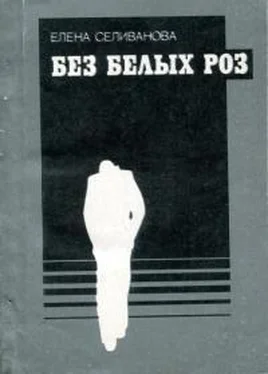

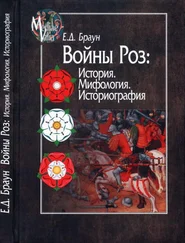


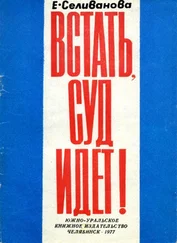

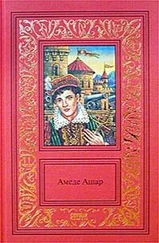
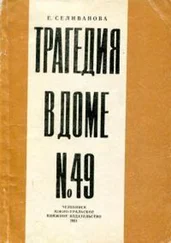
![Елена Арсеньева - Северная роза [litres]](/books/417067/elena-arseneva-severnaya-roza-litres-thumb.webp)


