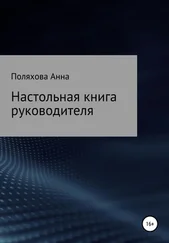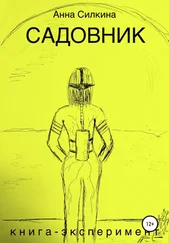– Рита, ну я не знаю, ну что это такое? – Татьянин голос снова был по-детски плаксивым, – Вот ты сидишь себе спокойно, а у меня представляешь, что произошло?
Я нервно рассмеялась.
– Вот тебе смешно, да? Я тут вообще на грани нервного срыва, валерьянку пью целым днями…
– А я как всегда над тобой измываюсь. Ты звонила, чтобы мне сказать, какая я черствая?
Таня замолчала. Видимо, именно это я и хотела сказать. Но выдерживать паузу она не умела, поэтому из трубки на меня полились очередные подвывания.
– Вот если бы ты могла понять, что может переживать человек, когда у него в жизни происходят такие события! Тебе-то хорошо…
– Мне очень хорошо, – саркастически согласилась я. – Ты просто не представляешь насколько.
– Смеешься? – трагически прошептала Татьяна.
– Да. Нагло и беспардонно.
– Ты…
– … цинична и не чутка к чужой беде! И не понимаю, что может испытывать мать, потому что не познала счастья материнства…
– Рита, что с тобой?! У тебя все в порядке? – встревожилась Татьяна. – нет, только честно, все в порядке, а? Что у тебя там стучит?
– Да вот, дверь железную ставлю.
– А тебе-то это зачем? Что тебе за ней прятать? Ну, я понимаю у кого есть хоть что-то ценное, а у тебя – только научна литература!
– Лучше рассказывай по-быстрому, что твой Димочка опять натворил?
– А ты уже знаешь? – в трубке послышались знакомые мне всхлипы.
– Догадываюсь. Ушел из дома, прихватив все, вплоть до алюминиевых ложек.
– Ну… почти…
– Ложки оставил?
– Рит, ну у меня серьезное горе, а ты… То есть он просто ушел. Сказал, что нашел какую-то работу, где денег платят, и стал снимать квартиру.
– Я рада за него. Если все это, конечно, так и есть.
– Рита, но это ужасно, как ты можешь так говорить? Ты не понимаешь, он ушел из дому, совсем. И я ему не нужна. Вообще не нужна, понимаешь?
На мое счастье именно в этот момент рабочие снова принялись сверлить стену, чтобы приделать к ней железный дверной проем. По сравнению с Татьяниными воплями и плачами эти звуки показались мне музыкой.
– Таня, прости, я ничего не слышу, – с чистой совестью и плохо скрываемой радостью выпалила я и повесила трубку.
За нашего Димочку можно было только порадоваться.
Вечером я смотрела в окно на колышущиеся ветки, на потухающий закат, и удивлялась, что теперь мне не слышны шаги соседей по лестничной клетке. Раньше я знала, что сосед слева выводит гулять свою собаку, муж соседки сверху с трудом вползает по лестнице, будучи в изрядном подпитии. А теперь чудесная дверь поглотила все шумы, отрезав меня от других обитателей дома. Почему-то мне не верилось, что эта дверь спасет меня в случае чего. На случай чего есть окно и балкон. А так… Володе спокойно, а мне приятно, что есть кто-то, кто заботится обо мне. Хоть иногда, хоть чуть-чуть.
– 42 -
– А вообще, зря Вы так, Маргарит-Сергеевна, – рассуждала Ириша, перепрыгивая через лужи.
Снова с неба на нас летела какая-то гадость – то дождь, то снег, то и то и другое вместе, смешанное с брызгами грязи и уличной городской гарью. Настроение у меня было мерзостное: день явно не задался. Во-первых, с утра сломался телевизор. Во-вторых, кончились мои любимые духи Кензо. Ни то ни другое – не трагедия, тем более, что телевизор я смотрела редко, а духами пользовалась только тогда, когда вспоминала, что женщине зачем-то непременно надо благоухать цветами. Но когда все вместе… Невольно задумаешься – а дальше-то что будет?
– Вот у меня приятель есть, художник… – продолжала Ириша.
– Что за приятель? – насупил брови Володя, который периодически изображал сурового отца.
– …так он говорил мне, – продолжала Ириша, не обращая внимания на его реплику, – Что у каждой вещи, которая хенд-мэйд, есть душа. Вот если на заводе сделано, то вещь остается без души. А когда вручную, то по вещи видно отношение человека, его настроение, все, что у него внутри. И тот, кто эту вещь берет в руки, это чувствует это. Вот это и есть душа вещи.
Такие рассуждения совершенно не подходили Иришке, упакованной в модные веши неестественных ультрасинтетических цветов. Или я чего-то не понимаю, или современные девушки делают все, чтобы их не смогли заподозрить в женственности. Особенно меня ужасали Иришины ботинки, в которых ее девичьи ножки казались огромными. Впрочем, кто бы говорил. На мои осенне-зимние ботинки вообще лучше не смотреть… Моя покойная мама всегда ужасалась тому, как долго я могу носить вещи уже после того, как они становятся по ее словам "непрезетнабельными и годными только в помойку".
Читать дальше
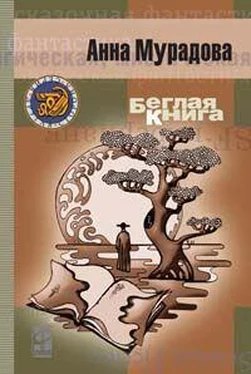





![Анна Соломон - Утерянная Книга В. [litres]](/books/388822/anna-solomon-uteryannaya-kniga-v-litres-thumb.webp)