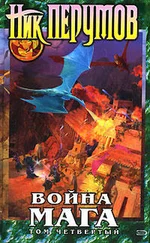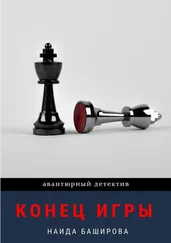Он невзначай, между слов, узнал и то, о чем Гелена не любила никогда говорить и что так сильно заинтересовало мать, когда он впервые познакомил их. Он узнал, при каких обстоятельствах умерли Геленины родители. Умерли в конце войны, только и сказала она; строго и однозначно дала понять, что больше на эту тему говорить не собирается. И он на том успокоился. Из деликатности? Несомненно, тут имела место и деликатность, он не хотел теребить в ней воспоминания, которые явно были ей неприятны; раз ей тяжело о том говорить, значит, есть свои причины; зачем понапрасну бередить старые раны. И все-таки, если бы она ему все рассказала, скольких недоразумений удалось бы им избежать. И мать определенно иначе бы к ней относилась, если б узнала, как это было: Геленин отец погиб в Восстании, а мать умерла в родах. Рожая Гелену. Катарину — она была на три года старше — удочерила сестра матери, а Гелену — брат отца, Гуго Барла, «золотые руки».
Почему Гелена не любила об этом говорить? Не хотела, чтобы ее жалели? Это представлялось ему самым реальным объяснением. Это было характерно для нее (и, пожалуй, не только для нее). Будто люди сейчас стремятся выглядеть более наглыми, жесткими, циничными, чем они есть на самом деле, будто стыдятся своих душевных ран и страданий, будто зазорно и унизительно быть добрым и несчастным человеком, будто такой человек — чудак, в обузу и на посмешище людям. Будто слово «сочувствие» мало-помалу исчезло из человеческого лексикона и взамен ему пришло «равнодушие».
Но разве это теперь имеет значение? Слишком поздно он начал ее узнавать; почему он так мало интересовался ее прошлым? Из деликатности или от равнодушия? Пожалуй, все могло кончиться по-другому; недоставало пустяка: спросить и настоять на ответе.
Возможно, тогда это не кончилось бы так, как кончилось. Хотя, по мнению Амалии Кедровой, все кончилось именно так, как должно было кончиться. Он долго не понимал, о чем она говорит, пока наконец сегодня утром, прежде чем приступить к уборке, она не оскалила десны и благодушно не спросила:
— А зубы у вас усе?
— Зубы? — Несуразность ее вопроса так его ошарашила, что он невольно ощупал рот и злобно выпалил: — У меня-то все, а у вас — ни одного! — Растерянность, стыд и злость — все это напоминало ему сон, в котором она играла с ним, как кошка с мышкой.
Амалия Кедрова вытащила из глубокого кармана закрытого передника небольшую книжку в грязном, засаленном переплете; похоже было, она вообще не слышала его язвительных слов.
— Да сон ваш. Вы уж и не помните, — сказала она, открывая книжку.
— Какой сон?
— То было предупреждение.
У него болезненно начинало гудеть в голове: не надо было пить ее вина, подумал он; и тут же резко передернулся: спятил я? какое вино? это же во сне было.
Но вино действительно существовало, старушка делала из черной бузины домашнее вино, он его никогда не пил, но Гелена, иногда навещавшая Амалию, не раз говорила ему: «Сладкое и ужасно тяжелое, настоящая бормотуха». Ага, это разъясняет один мотив моего сна: Гелена рассказывала мне о старухином бузиновом вине, я был пьян от этого ее джина, подташнивало, болела голова, и вот возникло представление, что я пью у старухи бузиновое вино, сладкое и тяжелое — бормотуху. Это немного успокоило его, как всегда, когда ему удавалось найти рациональное объяснение, казалось бы, необъяснимому душевному процессу. Но определенную роль здесь сыграла и склонность Славика поддаваться внушению — так же, как было и с воспалением легких.
Воспаление легких он заработал в марте, когда они с Геленой поехали в Хопок кататься на лыжах. Он никогда в жизни не становился на лыжи, и ему представлялось просто абсурдом пытаться в его возрасте обучиться тому, что играючи и бесстрашно проделывают пятилетние сорванцы. За две недели он, можно сказать, не высунул носа из гостиницы «Косодревина», валялся на кровати в приятно натопленной комнате, читал книгу и попивал горячий чай, считая, что зимний отдых в горах и чай — неотделимы друг от друга. Для него было совершенно очевидно, что мгновенный переход от братиславского воздуха, перенасыщенного смогом, к чистому, горному, перенасыщенному озоном, смертельно опасен для его здоровья. Он был предельно осторожен, и все-таки не избежал воспаления легких. Гелена со свойственным ей легкомыслием вовсе не думала о своем здоровье: все дни проводила на лыжах, а ночи напролет в прокуренном баре, возвращаясь оттуда вдрызг пьяная, чтобы после пятичасового сна вновь отправиться на заснеженные склоны (там, наверно, было ужасно надымлено, ведь только она одна выкуривала на лыжне десятка два «спартин»). Эта приверженка калокагатии [83] Стремление к духовному и физическому совершенству; один из античных идеалов.
с убийственной серьезностью, уверенностью и вдохновенной страстью, достойной лучшего применения, объясняла ему, что, дескать, это воспаление легких он подцепил именно потому, что почти безвылазно лежал в постели и его дряблое, хилое тело не способно было одолеть напор здорового воздуха, которому подвергалось во время изнурительных пятиминутных походов вокруг гостиницы. Но подобную болтологию он не принимал всерьез, давно усвоив, что логика не самое сильное оружие Гелены; наконец, она и сейчас противоречила себе: он заболел от здорового воздуха, что за ахинея? И это при том, что он предусмотрительно свел действие этого их «здорового воздуха» до минимума… А что было бы, если бы он действовал на его организм дольше… лучше об этом не думать.
Читать дальше