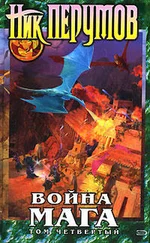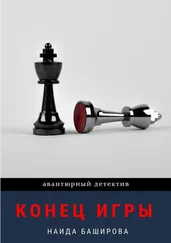— До чего же она была хитрой бестией, — удивленно покачала головой мать. — Уезжает в Прагу, чтобы сделать аборт, а прикидывается, будто едет посоветоваться с сестрой, как воспитывать ребенка. Вот так она водила тебя за нос долгие годы, и ты ей верил, как какой-то…
— Перестань! Замолчи наконец, прошу тебя… — оборвал он ее.
Мать действительно умела ударить по самому уязвимому месту: эта боль была, пожалуй, самой мучительной. И тон, каким она говорила, — казалось, будто даже это доставляет ей удовлетворение. А ее притворство — он вспомнил, как мать восприняла новость, что станет бабушкой. Этот ее истерический взрыв: Господи, если б хоть ребенок был не от этой потаскухи! — а теперь ведет себя так, будто Гелена умышленно и вероломно лишила ее долгожданного внука. Может, напомнить ей? Зачем? И без того все выглядит более чем отвратительно. Если бы она хоть молчала! Но он слишком многого хотел от нее.
— Мне сразу показалось подозрительным, когда она вдруг вздумала ехать в Прагу, — сказала мать.
— Не знаю, почему это показалось тебе подозрительным, — обрезал он. — Все равно… я не верю, что она уехала с такой целью. Скорей всего, она уже там решилась на аборт.
Мать снисходительно улыбнулась его наивности. Предположение, что Гелена действительно поехала в Прагу, чтобы сделать там аборт, казалось ему слишком чудовищным. В глубине души он не хотел, не мог допустить, что человек, с которым прожил семь лет, способен был на такую подлость. Гелена была способна на что угодно, но подлой и вероломной она не была, нет, такой не была. С ней, наверное, уже там, в Праге, что-то случилось, что-то такое, из-за чего она так смертельно возненавидела его и решила порвать с ним — окончательно, бесповоротно. Это ее невменяемое бешенство, когда она плюнула ему в лицо: За то, что ты всю жизнь меня обманывал. Замешана ли здесь другая женщина? Может, она узнала о какой-то его случайной интрижке? Конечно, порой, когда бывал в Праге, он позволял себе небольшие вольности, но это не могло стать для нее поводом сделать то, что она сделала. Наконец, они вообще договорились: если у кого-то из них вдруг возникнет какая-нибудь серьезная и продолжительная связь на стороне, они разойдутся спокойно, нормально, как два разумных взрослых человека. Они никогда не допустят, чтобы их жизнь превратилась лишь в формальное, ханжеское сожительство. Разумеется, он был не настолько простодушным, чтобы думать, что все Геленины флирты абсолютно невинны, и хотя достаточно терзался по этому поводу, знал, что это всего лишь короткие, мимолетные увлечения. Да, он был уверен: найди она действительно кого-нибудь, с кем решилась бы соединиться на долгие годы, то непременно бы сказала ему об этом; здесь он доверял ей; в таких делах она была искренна и последовательна. И он знал, что ему она тоже доверяет.
Благими намерениями ад вымощен, усмехнулся он. Ошибался я? Было ли это только самовнушением? Неужели наше взаимное доверие было лишь обманом и иллюзией? Правда ли, что я ее так мало знал?
Слова матери снова разбудили в нем подозрения и сомнения — в самом деле, было странно: почему вдруг, ни с того ни с сего, она собралась к Катке? Именно на две недели. В Братиславе она уже делала один аборт, может, поэтому решила ехать в Прагу? Это безопаснее, да и потом у нее там полно знакомых в медицинских кругах, которые охотно пошли бы ей навстречу — возможно, для этого не понадобилось бы даже имени доцента Барлы.
Довольно! К чему без конца терзать себя бесполезными догадками. Она это сделала, и это главное! Побуждения теперь уже не играют никакой роли. Всякие домыслы и сомнения лишь изнуряют его, а это сейчас просто непозволительно. Надо поесть, мать права. Когда слабеет тело, нервы посылают ложные сигналы. Но при одной мысли об яичнице, сохнувшей в кухне на сковородке, его затошнило. Как и много лет назад, когда на завтрак мать варила ему кофе с молоком. Любой ценой он должен был подавить в себе воспоминания, рождаемые разгоряченным воображением.
— Когда ты уж перестанешь наводить этот марафет? — обратился он к матери. — Мне кажется, ты чересчур усердствуешь.
— У нас должен быть совершенно естественный вид, ты можешь это понять? Мы должны прийти туда в абсолютно нормальном состоянии. Свежие, отдохнувшие после спокойного сна… Тебе вообще неизвестно, что Гелена дома. Она в Праге, понимаешь, в Праге, и сегодня должна вернуться. Вколоти себе это наконец в башку…
Он уже не слушал ее. Да, лезет из кожи вон, конечно, ей пятьдесят шесть, а хочет выглядеть тридцатилетней. Ее потуги казаться естественной попросту были ему смешны. Она теряет всякое чувство меры; и в тех средствах, какими она пыталась остановить неумолимо текущее время, и, главное, в убежденности, что ей это удастся сделать благодаря всем этим искусственным косметическим ухищрениям, его раздражала ее наивность, но вместе с тем и трогало упорство этой наивности, да, ее действия были смешны и трогательны и по-своему достойны восхищения. Неумеренное стремление к естественности может превратиться в карикатуру на естественность, подумал он. Возникает ощущение подделки, а затем и вопрос: зачем человеку понадобилось надеть маску естественности и что он пытается под нею скрыть? Естественности нельзя достичь маскировкой, хотел он сказать матери, но в момент, когда поглядел на нее, осекся, сбитый с толку тревожным ощущением — ведь это уже было; ему вдруг показалось, что он дома, в своей ванной, и наблюдает за Геленой перед зеркалом. Тени для глаз лучше держатся, если наносим их влажной кисточкой, и кроме того… Гелена подняла указательный палец, точь-в-точь как доктор Бутор в «Смиховской пивной»: Под утро, вообразите, под утро, чем это она занималась там всю ночь, уборщица…
Читать дальше