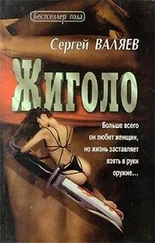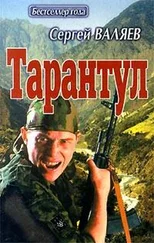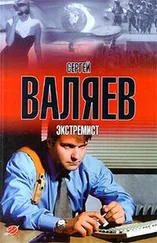Потом наступила долгожданная, инфицированная пальбой ночь. Но сначала она была тиха и прекрасна. В её высокой глубине мерцали бриллиантовые созвездия. Где-то там, в бесценных россыпях стоической природы, терялась и наша алмазная птичка-невеличка в четыре миллиона долларов.
Мой друг Хлебов выбрался из палатки — был трезв, помят, зол и раздерган. Алмазного неба он не заметил.
— Охотники, козлы!.. Все не как у людей… Спать надо ночью… Спать…
— Сон разума порождает чудовищ, — напомнил я.
— Сашка, беда твоя, что ты ещё не лишился иллюзий, — ответил капитан, клацнув выразительно затвором ружья. — А я лишился… напрочь… На всю оставшуюся жизнь…
— Да? — не поверил я.
— Чекист, погляди вокруг себя! — вскричал мой друг, озираясь как затравленный.
— А что? Красота. А вокруг пустота… А в ней звезды, как алмазная крошка…
— Ладно тебе, романтик, — сплюнул мой боевой товарищ. — Про звезды поговорим потом, — и, мазнув по мне больными глазами, побрел в сторону уже работающих БМП.
Затем началась охота. Хрупкие, носато-горбатые сайгаки метались в беспощадных залпах прожекторов. Это было поточное, ублюдочное убийство живой, беззащитной природы. Это была механизированная мясорубка. Это была державная потешка.
А что же я? Я лежал на влажном песке и, вжимаясь в него, чувствовал себя солдатом. Я не сделал ни одного выстрела. Почему? Как правило, я убиваю людей, которые того заслуживают. Убивать зверей — убивать себя. И не будем больше об этом.
Когда радостно и победно затрубила труба отбоя, я поднялся и побрел по влажному (от крови?) песку. В стороне изредка постреливали. Наверное, сайгаки нападали на человека… Я неторопливо шел в сторону шумного праздника. Там кричали «ура», свежевали освинцованные пулями тушки, пили шампанское… Я вспомнил, что мой друг не любит шампанского, предпочитая ему нашу пробойную водочку, и поэтому оглянулся в ночь и крикнул:
— Хлебов, ау? Глебушка?!
И увидел: салатовая ракета вспухла под звездами, как зонтик, сотканный из света ярких лампочек. И в этом праздничном свете я увидел: приподнимается дальний человек… Он приподнимается… И вдруг гулкий… шальной?.. дуплет… где-то совсем рядом со мной… И я увидел под мирным салатовым светом ракеты… Я увидел: череп дальнего человека разрывается… лопается, как первомайский воздушный шарик… в ошметки… И когда я все это увидел — ракета погасла, точно свеча, и наступила ночь. Ночь. И казалось, что все это сон. Но это был не сон.
Утром мы вернулись под родненький моросящий дождик. Небо было низким, предгрозовым, без звезд. С ревом выкатывали из «Антея» трудяги БМП, их фанерная бронь была заляпана кровавой ржавчиной. ГПЧ с группой товарищей топтались под мощным авиакрылом — по бетонной взлетной полосе летели лимузины…
— Алекс, — окликнул меня государственно-политический чиновник. Был утомлен и опечален. И его можно понять: испортить такую охоту. — Вы уж займитесь, так сказать, в последний путь… Мои, как говорится, соболезнования родным и близким, — страдал народный слуга. — Какая нелепая случайность, м-да… Так что, Александр, действуйте… — Садился в лимузин. — И похлопотать надо о боевой награде…
Кому? Мне? Или моему товарищу? Все-таки, наверное, моему другу. Ведь я еще, кажется, живу? Или я на этот счет заблуждаюсь? И тоже труп? Только рефлексирующий на жизнь.
Между тем кортеж государственных машин стартовал навстречу новому мглистому дню, а солдатики внутренних войск выносили из самолетного брюха цинковый гроб. Поставили его в мелкую блесткую лужу. Дождь усиливался забарабанил по гробу. Было неуютно, холодно и грустно. В этом смысле мой друг Хлебов устроился получше, чем мы все, мокнущие под дождем. В гробу, должно быть, сухо, тепло и надежно? Известно, что наши цинковые гробы самые лучшие в мире.
* * *
Поздним вечером я вернулся домой. Хлопотное это дело — хоронить героев, которым разнесли вдребезги черепушку. Медэксперты, например, так долго колдовали над тихим трупом, будто пытались возродить его к новой трудовой деятельности. Увы, труп — категория постоянная. Потом были ещё какие-то бюрократические закавыки, точно каждое ответственное лицо боялось пропустить мимо себя грешника в рай. Бедняга Хлебов; хорошо, что всей этой дряблой волокиты со своим трупом он не видел, а то бы ожил и пристрелил самого ретивого чудака-крючкотвора.
Город мирно почивал. Крестовины окон выразительно чернели. Многоэтажные панельные кладбища живых. Только в одном окошке уютно и ласково горел свет. Это, конечно, было окошечко в мой милый терем-теремок.
Читать дальше