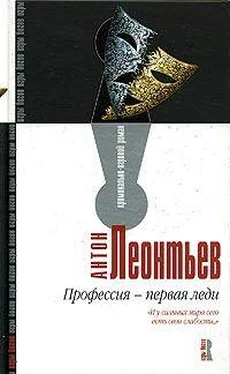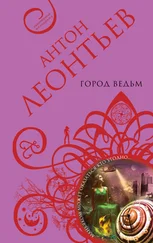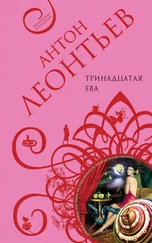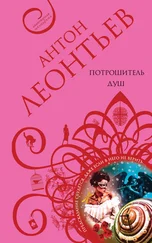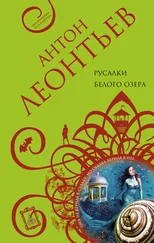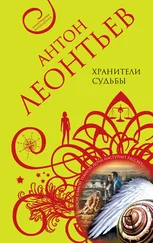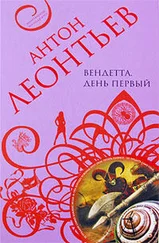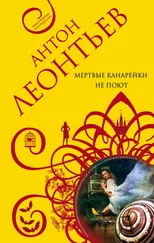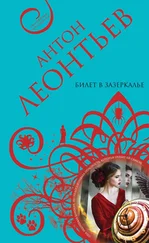Картина, написанная окончательно лишившимся рассудка художником, изображала Иуду. Иуду, предавшего Иисуса, Иуду, потерявшего веру, Иуду, впавшего в отчаяние и повесившегося на одинокой осине. Ибо оно, отчаяние, и есть самый тяжкий грех.
Ликом Иуда был похож на Иннокентия Сувора. И на Браню. Я поразилась тому, сколько муки в глазах этого самого страшного из грешников. Грешника, так и не прощенного, обреченного на вечные скитания между адом и раем. Грешника, который сам не убил, но который обрек на смерть того, кого любил…
А мой Браня? Неужели и его ожидает такая участь? Я сожгла картину в саду, но легче мне не стало.
Меня несколько отвлекала от страданий «Ярмарка тщеславия», но прежний азарт и энтузиазм фокстерьера, разрывающего лисью нору, безвозвратно ушли. Я вяло беседовала с женой столичного мэра, начав разговор вопросом, правда ли, что даже тот стул, на котором я сижу, сделан ее фирмой, и завершив его просьбой поделиться с телезрителями секретом того, как заработать миллиард.
Я решила сменить обстановку и, поручив Лоханкина заботам Раи, уехала в Штаты. Олигарха, возводившего «Букингемский дворец» на участке рядом с моей дачей, наконец-то арестовали. Теперь он обитает не в Перелыгине, а составляет компанию Молнезару Белоцерковскому в следственном изоляторе с поэтическим названием «Солдатская Услада»… Можно было в тиши работать над шедевром…
Но я не могла!
Поэтому и поехала в гости к Артему и Беверли. Я возилась с малышкой, по вечерам кропала роман и думала о том, что рано или поздно мне придется снова приехать в Перелыгино, переступить порог дома и остаться одной.
Но у меня будет теплый и когтистый Васисуалий, ноутбук с очередным рассказом, пачка сигарет, бесконечное количество крепчайшего кофе, «Ярмарка тщеславия», словоохотливая Рая Блаватская, а также моя многострадальная и любимая Герцословакия!
Жизнь такова, что радости сменяются горестями, а печаль звонким смехом. Я буду снова преподавать в своей Итаке, пытаться вложить в головы американских студентов минимальные сведения по герцословацкой литературе, время от времени наезжать в Силиконовую долину, чтобы взглянуть на Алису. Ника будет рассказывать мне о каскаде небывалых оргазмов, который она испытала с Дусиком («Фима, у женщин после менопаузы резко обостряется чувственность!»), а братец Илюшечка – стрелять очередные «двадцать долларов» до гонорара. Я буду продолжать царить на литературном Олимпе, наводить страх и трепет на писательский мир и богемную тусовку и вскоре наверняка получу очередного Фредди Крюгера или анти-Дюринга.
…И, может быть, когда-то на горизонте покажется мой всадник-принц, который похитит меня, и мы отправимся вскачь в неведомое королевство у моря, где три изумрудно-зеленых мглистых солнца никогда не закатываются за синемраморную горную гряду и пляж усеян черным жемчугом и лепестками пурпурных роз, а в прозрачном воздухе порхают невесомые колибри. Мы будем любить друг друга крепко-крепко, и родится у нас сорок детей, и скончаемся мы в одни день и один час, держась за руки…
Но буду (как призывает президент Бунич) реалисткой: наверняка этого никогда не произойдет. Что ж, остаться в Перелыгине в обществе Василиска и Раи Блаватской тоже не так уж и плохо. Даже очень неплохо! Просто великолепно!
И я вовсе не плачу, нет, уверяю вас, это не слезы! Это предрассветная роса, берилловая пыль, но только не слезы!
Как вы могли такое обо мне подумать, обо мне, самой «С.И. Гиппиус»! Мне не о чем жалеть и не о ком тосковать. Ну, почти не о чем и почти не о ком. Жизнь есть и после большого Трандычка!
Нет, не тебя так пылко я люблю! – громыхая, звеня и угукая, билась у меня в голове фраза из давно забытого романса; гром, звон и гул уносились в черную дыру, зияющую в центре Галактики, отражались в лучах серебряных звезд, и, празднуя триумф воли над жизнью и смертью, кольцами завивался, навсегда исчезая в страшном космическом бутоне, порфироносный, могучий, всеохватный, сначала робкий и далекий, потом нарастающий неведомой силой, восстающий от вечного сна, освежающий, бликами на воде мерцающий – «мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, Адонис, женской лаской плененный…», – солнцем согретый голос, «папа-папа-Папагено – папа-папа-Папагено…» – все громче, – нет, не его так пылко я любила, а все-таки, в сущности, только его одного, и это у нас было взаимно. Бууууууууууумссссссссссс!
Я сильная! Я выдержу! Я счастлива до опупения! Я читаю на ночь иронические детективы и тихонько подвываю в подушку. Я – «великая и ужасная», я, я, я…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу