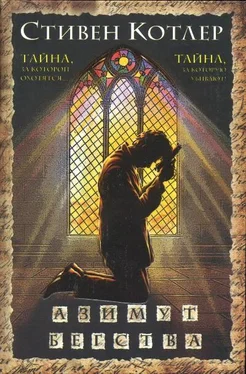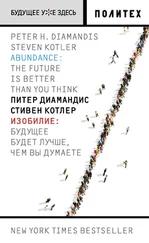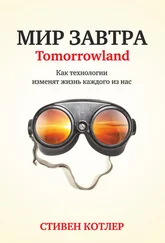Последнее, что он успевает увидеть, прежде чем зрение окончательно отказывает ему, — это глаза Липучки. Потом он остается один, изможденный и слепой, лишенный всякой надежды, а комната продолжает наполняться поколениями его умерших предков. Он — конец длинной родословной, последняя точка этой маленькой истории. Зрение медленно начинает возвращаться, но не полностью. Его глаза приобрели иное свойство, видения теперь идут не извне, а изнутри. Он откидывает назад голову, часть фрески все еще видна, она стала темнее, а под ней он различает ряды колышущихся тел. Некоторых людей он узнает. Он чувствует, что на него смотрит отец, но не может понять, где находится его тень. Он ничего не может сделать. Он спрашивает, чего они хотят, но они отвечают, что хотят только побыть с ним, но говорят это с таким жутким смехом, что он понимает — все они лжецы, бессовестные игроки, которые никогда не позволят ему присоединиться к их первобытным играм.
Где-то внизу — Ватикан, жизнь продолжается, ходят люди, которых он никогда не знал и которых никогда уже не узнает. Все продолжает существовать в таком привычном виде. Снизу поднимается пламя, языки которого уже дотягиваются до его рваной одежды, слизывая с него пыль и копоть старых книг, воспоминания о туннеле и лабиринте. Говор наверху затихает. Время улетучивается. Постепенно становится слышен чей-то сильный, смеющийся голос, но скоро стихает и этот звук.
Потом Габриаль тоже начинает смеяться, горловой хохот срывается с его уст, и Иония слышит его. Как он далеко, на мелкой волне в далекой стране — одинокий человек, бросивший своей жалкой доской вызов океану. Он находит Ионию на закате дня, одинокий смешок, разносимый над морями ветрами. Иония понимает, что это последнее прости и согревает Габриаля, стараясь уберечь его от гаснущего света и холодного северного течения. Габриаль поднимает одинокую руку, высоко поднимает — крошечный жест над волнами великого океана.
Теперь Габриаль уже сидит на скамье возле прохода, который отделяет его от матери. Она производит странные звуки — словно тужится во время родов, но чресла ее ослабели, а ноги обессилели, и потуги ее пропадают втуне. Скамья расширилась на несколько дюймов. Исчезла куда-то кафедра проповедника. Воздух наполнился духом фундука и ежевики. Красно-рыжее пламя исходит из ног Габриаля, и они начинают таять, как воск. Все это происходит без всякой церемонии, просто конец, который пришел к нему среди его родных, великое таинство, которое ему не суждено понять до конца. Странно, но он почти не испытывает боли.
Габриаль берет молитвенник и начинает читать. Слова латинские, он не знает этого языка. Но он понимает, что наткнулся на то место из Екклезиаста, где говорится о приходе и уходе поколений и о вечном торжестве земли, — но слова теряются там, куда они ушли после разделения языков, попав в уста колдунов и фокусников.
САНТА-ФЕ. Ко мне в гости приехала Элизабет Стоувер, но не уехала вовремя, а я был еще слишком молод, чтобы знать, что напишу эту книгу. Мы все еще были в Санта-Фе, когда Говард Шак и Фрэнк Миллер дали объявление следующего содержания: «Наши друзья уехали в Санта-Фе, они очень одиноки, напишите им». Мы провели время в потоке странных слов. Все они — лучшие из людей.
ИЕРУСАЛИМ. Эту сказку мне подарили родители. Таких подарков так много, что попробуй я упомянуть все, получился бы очень длинный список. Я помню, что мы много и от души смеялись, но не помню тот момент, когда почувствовал всю тяжесть Стены Плача.
БАИЯ. Я побывал там после того, как Говард Шак и Крис Маркетти научили меня серфингу, но до того, как умер Крис. Именно по этим ориентирам я запомнил Баию, хотя и не могу поручиться за точность. Время работает по-разному по обе стороны событий.
АСПЕН. Это место, где я запоем прочитал «Радугу гравитации» и реально ни с кем не подружился. Но все было не так плохо, так как в Колорадо в это время жил Чэд Гроховский. Это был один из тех, кто присутствовал при зарождении замысла книги и при ее рождении, и если повезет, то я бы с удовольствием повторил этот раунд.
САН-ФРАНЦИСКО. Именно здесь вынырнул Том Уэйтс, и я благодарен ему за «уличных девочек с пистолетами», и «маленькую лодочку», и за все прочее, что я украл у него. Некоторое время я жил в комнатке размером с салон микроавтобуса, и мне приходилось перелезать через кровать, чтобы добраться до стола. Эрик Оттер вселял в меня бодрость духа и радость. Это он показал мне часы на фасаде похоронного бюро. Все остальное показала мне Ширли Авни. Ширли никогда постоянно не жила в Сан-Франциско, она просто приезжала в город и помогала мне просеивать и находить нужные слова. Не в последнюю очередь благодаря ей эта книга вообще появилась на свет.
Читать дальше