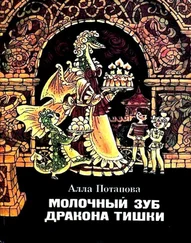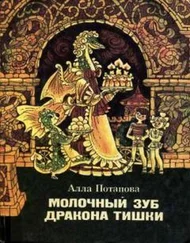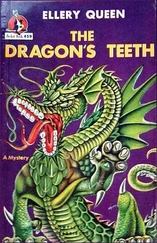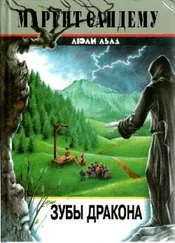— Что ты хотел?
Парень, немного помявшись, несмело попросил:
— Мне бы Вадика Ведерникова, я его брат…
Я едва не хлопнул себя по лбу. Ну конечно же! Брат Вадика. Только тот посимпатичнее будет, и мордашка у него посмышленее. Парень продолжал мяться у двери, ожидая ответа. Обернувшись, я оглядел класс и вышел, оставив дверь кабинета открытой.
— А что случилось?
— Я хотел его домой забрать. Мать у нас больна, присмотреть за ней нужно. А мне надо отлучиться по важному делу.
Я недовольно поморщился.
— Послушай… Как тебя?
— Саша.
— Александр, а нельзя без него? Ведь конец года приближается, ему бы надо об отметках порадеть.
Рыжий снова застенчиво улыбнулся.
— Так ведь некому больше, одни мы…
Вздохнув, я ответил нарочно погромче:
— Хорошо, сейчас я спрошу, может, он уже закончил.
Еще не переступив порог, я услышал шелест стремительно исчезающих в партах учебников и усмехнулся. Годы идут, все меняется, и только школяры остаются прежними.
Подойдя к столу, я сел и окликнул Ведерникова:
— Вадим, пойди сюда. С кроссвордом…
Он подошел и положил мне на стол листок с полностью разгаданным кроссвордом.
— Молодец. Сам разгадал, без учебника?
Заметив, что он обиделся, я поправился:
— Ну, извини, извини. Конечно же сам… Ты вот что, Вадик. Собирайся и иди домой. Брат тебя за дверью ждет, мама у вас заболела.
Вадим вздохнул.
— Да она давно больна, с лета еще. Потому и Сашку в армию не взяли.
В словах его проскользнула какая-то недетская горечь, отчего мне стало неуютно на душе.
— А отец у вас где же?
— Ушел отец, два года уже.
Говорили мы вполголоса, но сидящие на первых партах, видимо, услышали и стали проявлять нездоровый интерес. Чтобы не смущать Вадима, я решил прекратить расспросы. Он и сам, чувствуя неловкость от неуместного разговора, спросил:
— Так я пойду?
Я кивнул.
— Да, да. Конечно. Иди, Вадим. За кроссворд я ставлю тебе іотличноі.
Он сделал шаг к своей парте, вдруг обернулся, в упор посмотрел на меня своими зелеными глазищами и с какой-то обреченностью сказал:
— Должно, помрет мамка, Игорь Викентьевич. Одни мы с Сашкой останемся…
Он уже вышел из класса, а я все еще не мог прийти в себя от обреченного спокойствия, с которым он это сказал, как будто о чем-то обыденном, давно решенном и потому привычном. Я, взрослый мужик, не рохля и не слюнтяй, потеряв отца чувствую себя сиротой, это при том, что у меня есть мама. А этот шпиндик с таким спокойствием говорит об ушедшем отце и умирающей матери, словно с рождения готов к тому, чтобы остаться одному в этом большом и равнодушном ко всему миру. Что же с нами со всеми делается? Почему мы черствеем и становимся невосприимчивы к чужой боли и чужой беде? Только ли беспокойные времена в этом виноваты? Или черствость и равнодушие передаются нам друг от друга, как инфекция? В таком случае жаль, что любовь к ближнему и доброта не являются заболеваниями, а милосердие и терпимость не так горласты, как наглость и подлость.
Подумав об этом, я тут же поймал себя на мысли, что и сам я, рассуждающий о людском несовершенстве, далек от идеала. Еще пару дней назад я с таким бессердечием и пренебрежением относился к бессловесно влюбленной в меня Маше Соковой, что сегодня готов каяться перед ней и замаливать свои грехи. И вовсе не потому, что поумнел за эти два дня. Отнюдь. А только лишь потому, что вчера получил от Наташки телеграмму, поставившую весь мир с ног на голову. Телеграмма, благодаря которой не только понял (понимал я и раньше), но и почувствовал, что значит быть отверженным. Наташка была, как всегда, категорична и немногословна: іНе пиши, не приезжай. Выхожу замуж. Прости. Прощайі. Не знаю, что было бы со мной, не умей я сдерживать свои эмоции. Боль, перемешанная с яростью, имеет убийственную взрывную силу и справиться с ней непросто. Особенно когда захлестывает волна искреннего непонимания: за что? Как это можно, что женщина, еще недавно клявшаяся в любви, сухо и холодно пишет: іПрощайі?
К счастью, мне все же удалось сохранить способность здраво рассуждать и действовать. Единственная вольность, которую я себе позволил, — это напиться. Всю ночь я старательно воевал с той самой бутылкой водки, которую утаил от Вальки. Настолько старательно, что утром еле продрал глаза и, опившись деготным кофе, нетрезвой еще походкой отправился на работу. И весь день переламываю себя, не позволяя расслабиться. Потому что твердо знаю: стоит себе позволить расклеиться хоть на минуту — и все. Остановиться уже не удастся. То, что Наташка слов на ветер не бросает, я знаю отлично. А просить и умолять — не в моих правилах. Да и стоит ли? Все сломалось в одно мгновение, и искать причину разрыва и пытаться все возвратить — безнадежное занятие. Все эти напыщенные фразы о том, что за любовь надо бороться, — фикция, дым. Либо она есть и она твоя, либо ее нет, и бороться, соответственно, не за что. Забыть все, и Бог с ним со всем. Аминь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу