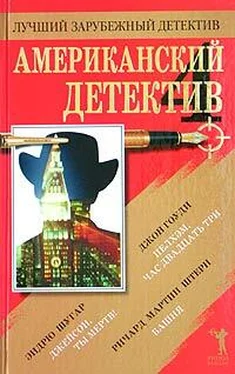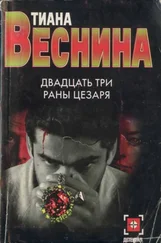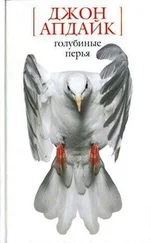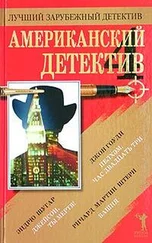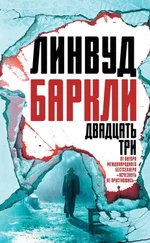Так пусть они смеются. Как и неизбежное осуждение коллег, это неприятно, но не смертельно. Раны от насмешек заживают быстро…
Так что он принципиально предпочел выбрать бесчестие, а не смерть. Может быть, Диди увидела бы это в ином свете. Впрочем, она наверняка бы осталась довольна его выбором — в силу целого ряда причин, среди которых, как он надеялся, могла быть и такая аполитичная причина, как любовь. Не приходилось долго гадать, какую позицию займет все управление в целом и его капитан в частности. Нет сомнений, его предпочли бы видеть мертвым, но не обесчещенным.
Но в этот миг вожак бандитов двинулся к нему, и его инстинкты, воспитанные длительной тренировкой, образом жизни, промыванием мозгов, называйте, как хотите, решительно наплевали на все рассуждения, и он превратился в полицейского, верящего во все эти устаревшие понятия о чести и достоинстве. Он сунул руку под пончо и начал чесаться, перемещая кисть, пока пальцы не нащупали твердую деревянную рукоять револьвера.
Вожак навис я над ним, голос его звучал одновременно безлично и угрожающе.
— Встаньте.
Пальцы Берри уже сомкнулись на рукояти револьвера, когда сидевший слева от него мужчина встал. Ослабив хватку на оружии, Берри так и не понял, да это и к лучшему, что не понял, кого же выбрали на самом деле. Он лишь подумал, что его сходство с полицейским не так велико и то возникает, то исчезает, как мигающие фонарики над китайским рестораном.
Только сейчас он увидел, насколько смахивал на полицейского поднявшийся мужчина. Вожак, держа автомат наперевес, одной рукой быстро и умело его обыскал. Довольно отметив, что оружия не оказалось, он забрал бумажник и, приказав мужчине сесть, быстро просмотрел его содержимое. Потом швырнул его на колени хозяину и, похоже, впервые немного повеселел.
— Журналист, — буркнул он. — Вам говорили, что вы похожи на полицейского?
Лицо мужчины побагровело, с него градом лил пот, но ответил он твердым голосом:
— Не раз.
— Вы — репортер?
Мужчина покачал головой и обиженно поправил:
— Когда я иду по району трущоб, в меня обычно кидают камнями. Я театральный критик.
Казалось, вожак слегка ошеломлен.
— Ну, надеюсь, вам понравится наше небольшое представление.
Берри подавил смешок. Вожак отошел и вернулся в кабину машиниста. Берри снова почесался, его пальцы выпустили револьвер и рука, словно краб, медленно поползла по влажной коже, пока не выбралась наружу из-под пончо. Потом он скрестил руки на груди, опустил на них подбородок и принялся бессмысленно ухмыляться, пялясь на свои башмаки.
Райдер
В кабине машиниста Райдер вспомнил яркий солнечный день, который скорее подчеркивал, чем смягчал кричащую безвкусицу улиц Нью-Йорка. Они гуляли с Лонгменом, когда тот неожиданно остановился, как вкопанный, и выпалил вопрос, который мучил его уже несколько недель.
— Почему такой человек, как вы, идет на это? Я хочу сказать, вы умный человек, гораздо моложе меня, вы вполне могли бы жить нормально, ваша жизнь… — Лонгмен сделал паузу, чтобы ещё сильнее подчеркнуть значение своих слов, и сказал: — Вы же на самом деле не преступник.
— Я планирую преступную операцию. Это делает меня преступником.
— Ну, ладно, — отмахнулся Лонгмен. — Но хотел бы я знать, почему вы это делаете?
Существовало несколько ответов, каждый из которых был правдив лишь отчасти, или, можно было сказать, отчасти неправдив. Он мог бы сказать, что делает это ради денег, или ради острых ощущений, или из-за того, как умерли его родители, или потому, что он воспринимает некоторые вещи не так, как другие… И возможно, любой из этих ответов мог Лонгмена удовлетворить. Не то, чтобы Лонгмен был глуп, просто он принял бы любое разумное решение этой загадки — или не принял никакого.
Но вместо этого Райдер сказал:
— Знай я, почему, скорее всего не стал бы этого делать.
Казалось, Лонгмена отговорка удовлетворила. Они продолжали гулять и больше никогда к этому вопросу не возвращались. Но Райдер чувствовал, что вопрос висит в воздухе, давит, и дело не в том, интересует его сам вопрос, либо ответ на него — его собственный или кого-то другого. Теперь, стоя в кабине машиниста — уединенном месте, похожем на исповедальню и в переносном смысле расположенном на полпути между землей и адом, — он напомнил себе, что он ни психиатр, ни пациент. Он знал свою жизнь, и этого было достаточно. Ему не было нужды объяснять факты своей жизни, исследовать её смысл. Жизнь, как и жизнь любого человека, поражала его как довольно жестокая и неловкая шутка, которую смерть устраивает людям, и прекрасно, если человек это понимает. «Смертью мы обязаны Богу». Он вспомнил, что где-то читал эту фразу — кажется, у Шекспира. Ну, что же, он относился к тем людям, которые платят по счетам, когда приходит время, и не любят оставаться в долгу.
Читать дальше