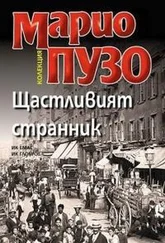Воскресенье выдалось чудесным для декабря; подошли и гости: Panettiere с Гвидо, наконец-то расквитавшимся с армией, неутомимый парикмахер, рассматривающий сквозь пелену красного вина головы присутствующих, ревниво отыскивая следы от чужих ножниц. Panettiere мигом умял целую тарелку горячих ravioli: он питал слабость к этому блюду, на которое его жена – почившее чудовище – вечно жалела времени, целиком уходившего у нее на подсчитывание денег.
Даже тетушка Терезина Коккалитти, превратившая свою жизнь в тайну для окружающих и извлекавшая из этого немалую прибыль, преспокойно накапливая жирок и огребая семейное пособие при четырех здоровенных работящих сыновьях – никто не догадывался, как это у нее получается, – даже она отважилась на несколько стаканчиков вина, добрую порцию вкусной еды и беседу с Лючией Сантой о тех счастливых деньках, когда они девчонками разгребали в Италии навоз. Пусть правило тетушки Коккалитти состояло в том, чтобы немедленно запирать рот на замок, услыхав от кого-либо личный вопрос, – сегодня она изменила себе и благодушно улыбнулась, когда Panettiere поддел ее на предмет махинаций с пособием. Две рюмки вина сделали свое дело: раскрасневшись и расчувствовавшись, она посоветовала всем присутствующим отхватывать у государства все, что только можно, ибо, в конце концов, все равно придется отдать ему, проклятому, вдесятеро больше, независимо от прежней прыти.
Джино, уставший от болтовни, уселся на пол перед фасадом собороподобного радиоприемника и включил его. Ему хотелось послушать спортивный репортаж. Лючия Санта насупилась, сочтя это грубостью, хотя радио верещало так тихо, что никто ничего не слышал. Потом она оставила его в покое.
Норман Бергерон первым заметил странную перемену в поведении Джино. Тот, припав к радио ухом, внимательно смотрел на сидящих за столом. Отложив книгу, Норман понял, что Джино смотрит на мать. На его губах играла улыбка – но не радостная, а какая-то жестокая. Октавия, проследив взгляд мужа, повернулась к радио. Она так ничего и не расслышала, но в глазах Джино горело такое оживление, что она не вытерпела и спросила:
– Джино, в чем дело?
Джино отвернулся от них, чтобы спрятать румянец.
– Японцы напали на Соединенные Штаты, – сказал он и крутанул ручку громкости. Взволнованный голос диктора заглушил все голоса в комнате.
Джино ничего не предпринимал, пока не прошло Рождество. Потом ранним утром, сразу после смены, он отправился на призывной пункт. В тот же день он позвонил мужу Октавии на службу и попросил передать Лючии Санте, где он находится. Вскоре его послали в учебный лагерь в Калифорнии, откуда он регулярно писал и слал домой деньги. В первом письме он объяснял, что пошел добровольцем, чтобы спасти от призыва Сала, однако впоследствии не упоминал об этом.
– Aiuta mi! Aiuta mi!
Надрываясь от горя, преследуемая призраками троих погибших сыновей, Терезина Коккалитти металась по кромке тротуара. Туловище ее нелепо раскачивалось, утренний ветерок трепал ее черные одежды. Добежав до угла, она развернулась и устремилась назад, восклицая:
– Aiuto! Aiuto!
Однако при первых же звуках ее голоса все окна на Десятой авеню мигом захлопывались.
Несчастная стояла теперь на мостовой, широко расставив ноги. Задрав голову, она проклинала всех и вся. Ради этого она вспомнила вульгарный говор родной итальянской деревни. Страдание стерло с ее худого ястребиного лица все следы хитрости и алчности.
– О, я знаю вас всех! – вопила она, обращаясь к закрытым окнам. – Вы хотели меня надуть – вы, шлюхи и дочери шлюх! Хотели обвести меня вокруг пальца, все хотели, но я вас перехитрила!
Она раздирала себе лицо острыми, как когти, ногтями, пока кожа на щеках не повисла кровавыми клочьями. Воздев руки к небесам, она взывала:
– Только бог! Он один!…
Она вновь припустилась бегом, норовя лишиться своей черной шляпки, опасно вздрагивавшей у нее на голове. Тут, на счастье, из-за угла Тридцать первой стрит показался ее единственный оставшийся в живых сын, поймал ее и потащил домой.
Все это происходило уже не впервые. Сначала Лючия Санта выбегала на улицу, стремясь помочь старой подруге, теперь же она только наблюдала за ней из окна, как и все остальные. Кто мог предположить, что судьба нанесет Терезине Коккалитти подобный сокрушительный удар? Всего за один год война отняла у нее троих сыновей – это у нее-то, такой хитрюги, всегда соблюдавшей крайнюю таинственность, всегда способной на любой подлог! Значит, тут уж ей ничто не смогло помочь? Значит, все обречены? Раз самое совершенное зло оказывается бессильным против рока, то откуда взяться даже слабой надежде на спасение?
Читать дальше