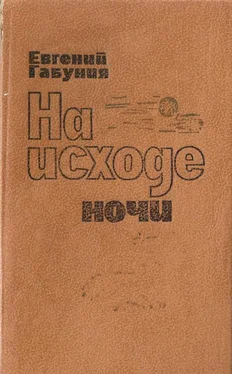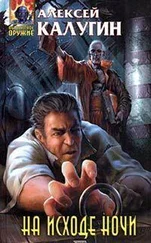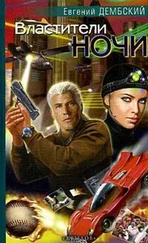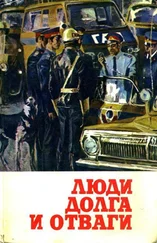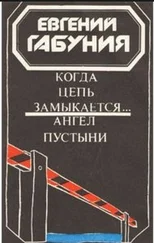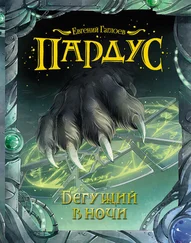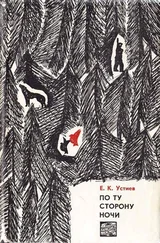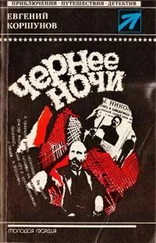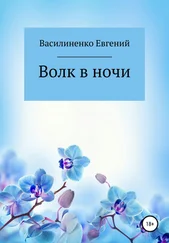Жугару достал пачку «Казбека», закурил, задумался. Невеселое наследство оставил его предшественник — младше по званию — капитан, но старше по возрасту, строевой офицер, — попавший в органы госбезопасности уже после войны. Припомнился разговор, когда капитан передавал ему дела: «Поверишь, — говорил он, — на фронте было легче. Там все ясно: кто враг, кто свой. Открытый бой. А здесь не всегда разберешь. Тонкое это дело, особый подход требуется… Скажу тебе откровенно — не жалею, что меня переводят, даже рад. Ну а ты, думаю, справишься лучше меня. Опыта больше, образование соответствующее. И сам, слышал, из этих мест будешь. Свой человек, не то, что я, россиянин. В общем, правильно сделали, что тебя сюда назначили. Для пользы дела».
Примерно такие же слова услышал Жугару в отделе административных органов ЦК, куда его, совсем недавно работавшего заместителем начальника райотдела МГБ по милиции в одном из южных районов Молдавии, вызвали для беседы. И еще ему было сказано, что в Кишкаренском и прилегающих к нему районах оперативная обстановка весьма сложная, и на него, офицера-фронтовика, получившего специальное образование и имеющего уже известный опыт оперативной работы, возлагают немалые надежды. «А какой-такой у меня особый опыт? — хотел было возразить тогда Жугару. — Закончил войну командиром пулеметного взвода. Правда, потом пришлось участвовать в ликвидации оуновских банд в Западной Украине». Видимо, этот опыт и имел в виду его собеседник в ЦК. Так и остался служить бывший пулеметчик в органах. Едва окончил Кишиневскую школу милиции — послали замом в райотдел. И вот теперь поручают самостоятельный участок. Нет, он тогда не отказывался, сказал, что постарается оправдать доверие.
Жугару перевел взгляд на стол, заваленный папками. «Неужели прав был мой предшественник, когда утверждал, что на фронте было легче?» Но здесь тоже фронт… без линии фронта, здесь тоже идет война между старым и новым, и он, майор Жугару, снова оказался на передовой. Пусть будет так, за чужими спинами он не привык прятаться.
Погасив папиросу в стреляной гильзе от снаряда, приспособленной под пепельницу, он принялся перебирать папки, пока не дошел до той, на которой значилось: «Дело Бодоя Ф. Е., начато 27 июля 1945 года, окончено…»
Из дела Бодоя Филимона Ефимовича, 1910 года рождения, уроженца села Мындрешты Кишкаренского района
…В годы бояро-румынской оккупации имел в селе Мындрешты кузницу. Согласно показаниям жителей села, занимался воровством скота и птицы. Служил в румынской королевской армии. В 1945 г. был арестован за уклонение от службы в рядах Красной Армии, а также за хранение огнестрельного оружия (пистолета). Бежал из-под стражи и перешел на нелегальное положение. Вместе с ним на нелегальном положении находятся жена, сын и дочь. Двоюродный брат Бодоя, призванный в Красную Армию, был расстрелян по приговору военного трибунала за попытку перейти на сторону врага.
Организовав сравнительно небольшую, но глубоко законспирированную бандитско-террористическую группу, которую в целях устрашения именует «Черной армией», Бодой совершил ряд терактов над партийно-советскими работниками, активистами колхозного движения. Занимается грабежом, проводит антисоветскую агитацию, направленную на срыв мероприятий по укреплению Советской власти и коллективизации сельского хозяйства. Убил председателя Гиришенского сельсовета… комсомольца-бригадмильца села Мындрешты… секретаря Годжинештского сельсовета… Подозревается в совершении ряда других терактов.
Характеризуется как исключительно жестокий, осторожный, скрытный… Физически сильный… Хорошо вооружен. При задержании может оказать вооруженное сопротивление. Оружие применяет без колебаний…
«Война вот уже несколько лет как закончилась, а такой враг все еще топчет молдавскую землю!» Майор невольно стиснул зубы от нахлынувшей ненависти. Хотелось действовать сейчас, немедленно, не откладывая ни секунды. Он взглянул в окно, за которым стояла глухая ночь, и снова взялся за папку. Наткнулся на серый конверт с типографской надписью: «Подлинник письма. Не сгибать!» В конверте лежало несколько писем, написанных рукой Бодоя, о чем свидетельствовало заключение эксперта-почерковеда. «Не забыть бы письмо Коцофану послать на экспертизу для идентификации». Жугару достал из полевой сумки письмо, которое захватил с собой, уезжая из Мындрешт. Для верности. Китикарь мог и ошибиться, утверждая, что почерк Бодоя знает не хуже своего собственного.
Читать дальше