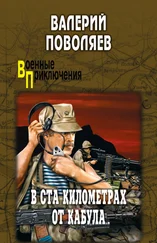Через минуту Бобров с изменившимся, каким-то окаменевшим лицом закрыл дверь квартиры и, горбясь, вяло шаркая ногами, будто старик, зашагал в сторону метро.
Звонить из больницы домой было бесполезно, телефоны-автоматы - а их установлено по одному на этаже, - жадно глотали жетоны, каждый из которых, между прочим, стоил полторы тысячи рублей. Редким счастливцам, правда, удавалось дозвониться, - но для удачи надо было наменять жетонов как минимум на среднюю зарплату. Бобров был не из тех, кто мог себе позволить такие траты.
Первая ночь для него была мучительная. Бобров всегда плохо спал на новом месте, ворочался, часто просыпался, а тут сна вообще не было, было лишь забытье, схожее с одурью, и все равно коротенький сон он увидел. Во сне он пришел домой к своему закадычному товарищу, позвонил в дверь, а тот дверь не открывает, спрашивает с той стороны: "Это кто? Юра?" - "Нет". "Володя?" - "Нет". - "Серега?" - "Нет". - "Кто же тогда?" - "Роман". "Роман? Нет, такого я не знаю". - "Это же я, Роман, Роман Бобров!". - "Не знаю такого", - равнодушно ответил из-за двери приятель и дверь так и не открыл.
Очнувшись ото сна, разлепив глаза, Бобров вспомнил, что приятель этот умер восемь лет назад. Внутри у него что-то судорожно сжалось, холодный колючий пузырек медленно пополз вверх к горлу, там лопнул, причинив Боброву боль.
- Как же так? - спросил он себя, подвигал вялыми влажными губами, приподнялся на широкой и плоской, как аэродромное поле, больничной кровати. - Почему именно к нему я пошел в гости? И куда, а? На тот свет!
В окне виднелись деревья, освещенные мертвенно-желтыми фонарями, шоссе, по которому мела кудрявая, сухая поземка - машин в этот ночной час не было. Еще проглядывали далекие угрюмые корпуса - то ли завод какой, производящий галоши для космоса либо нательные рубахи для личного состава Вооруженных сил России, то ли жилые дома новой конструкции и предназначения - для одиноких стариков и старух, которые свои квартиры сдали московской мэрии, то ли что-то еще. Угрюмость проступающих сквозь прозрачную ночную тьму корпусов удручала, Бобров немо шевелил ртом, глядя за окно, потом поглубже вздохнул и спиною повалился на кровать.
- Нет, так с ума сойти можно, - прошептал он, - это совершенно определенно.
Сосед его по палате - востроносый человек с небритыми щеками и крупным, как булыжник, кадыком, храпел, словно паровоз, тащивший за собою полсотни вагонов. Спастись от могучего храпа можно было, только переместившись отсюда километров на двадцать, но куда мог переместиться из больницы Бобров? Он сжал зубы, снова вгляделся в метель, медленно поднимающуюся в ночной темноте, за окном. Как все-таки отличается пейзаж ночной от пейзажа дневного! Деревья, например, днем были совсем другими. Под больничными окнами рос старый яблоневый сад - когда-то давно, в сталинские времена, здесь было, видать, большое хозяйство, показательный подмосковный колхоз или совхоз. Стволы яблонь - разлапистые, искривленные, с крупными ветками, создавали какой-то странный покой и домашность, сонное тепло; ночью же в искривленных, растворяющихся в темноте ветках таилось что-то злое, опасное, готовое вцепиться в человека, ухватить его за одежду, сучком выцарапать глаза...
Бобров почувствовал, что темнота перед ним влажно поплыла, на глаза навернулись слезы. Он сморгнул их, всхлипнул и вдруг услышал, что храп соседа резко оборвался. Сосед повернул в сторону Боброва голову, блеснул в темноте белками глаз. Прокашлявшись спросил у Боброва:
- Ты не куришь, сосед?
- Нет.
- И я не курю. А вот чего-то курить хочется.
Бобров сглотнул слезы, запил их водой из больничной кружки, стоявшей на тумбочке, спросил:
- Что, так тошно?
- Тошно, - не стал отрицать сосед, - так тошно, что...
- И мне тошно, - признался Бобров, - очень тошно.
- Дома эта проблема снимается легко, дома есть друзья, телефон, телевизор, коньяк, пиво в холодильнике, а что есть здесь?
- Только тоска, - сказал Бобров.
- Ну, не только... Есть ещё боль, есть надежда - у всякого, кто серьезно болен, есть надежда, есть слезы, есть радость - всего полно!
- А мне кажется, что, кроме тоски, ничего уже нет.
- У тех, кто попадает в больницу, первые дни всегда черные, настроение - ни в дугу. А потом - ничего, потом проходит... Приедут домашние, привезут каких-нибудь пампушек с повидлом, супца из птицы-курицы, фотографии, на которых запечатлены приятные миги, и все - кривая ползет вверх...
- Домашним я так ничего и не сумел объяснить - не видел никого перед отъездом. Записку оставил, но что записка...
Читать дальше