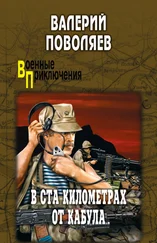Когда он уходил из дома, жена продолжала всхлипывать, - хотя главный поток уже иссяк, остался только ручеек, но ручеек этот у женщин способен сочиться долго, долго ещё будет вымывать из души разный сор, накипь, все лишнее, что накапливается за годы, а с другой стороны, когда все это вымывается из души, то вымывается и то, что позволяет человеку быть человеком, заставляет сочувствовать чужой беде, посторонней боли, слезам другого человека, - считать все это своей бедой, своей болью, своими слезами.
- Ты куда? - не поднимая головы, хлюпающим шепотом спросила жена.
- Как куда? В офис. Я же нахожусь на работе...
Он ждал, что жена спросит ещё о чем-нибудь, но та, поскуливая тихонько, не спросила больше ни о чем.
Через час ему принесли в конверте гонорар за выполненную работу восемь тысяч долларов. Он пересчитал деньги и улыбнулся неожиданно зубасто, широко: эти деньги перекрывали что угодно - и слезы жены, и укокошенного родственника, "седьмую воду на киселе", и затраты, и собственное беспокойство - словом, все! А разные сладкие слюни, сантименты - это вареный изюм, выковырянный из манной каши, это ничего не стоит. Нич-чего! В чем, в чем, а в этом он был уверен твердо. Как и в том, что профессия его, рожденная нынешнем временем, имеет такое же право на жизнь, как профессия учителя, врача, газосварщика, инженера по монтажу электронных систем и так далее. Перечислять все профессии - только время терять.
А время дорого, время - деньги. Формулу эту он усвоил хорошо.
ВОРОБЕЙ НА ЯБЛОНЕВОЙ ВЕТКЕ
Считается, и наверное недаром, что больница - одно из самых тоскливых мест на земле, уступающее, быть может, только кладбищу. И если кладбище последний приют тех, кто любил, жил, пел песни, радовался, ходил на рыбалку, воевал и страстно мечтал о том, что детям будет жить легче, то больница для многих наших сограждан - приют предпоследний.
Некоторые в больницу едут, как на кладбище, едва сдерживая скопившиеся слезы, с горьким чувством, прощально оглядываясь на свой дом, на родные окна, находящиеся где-нибудь на четвертом или пятом этаже, на стены, в которых так много всего оставлено, а потом, добравшись до больничной подушки, прижимаются к ней, стискивают зубы, чтобы наружу не прорвался ни единый звук, и безмолвно плачут.
Разных людей повидал я, пока находился в больнице, расположенной на окраине Москвы, почти на выезде из города - здешнее Каширское шоссе совсем недалеко смыкается с просторами области. Были в больнице и те, что, оказавшись в палате, воздвигали вокруг себя забор, ни в грош не ставя медицину, от врачей воротили нос и прописанные таблетки спускали в унитаз, о других нарушениях я уже и не говорю; и те, что, напротив, строго следовали указаниям врачей, не отступая от рекомендаций. Но это две крайности, а между ними стояло столько народу, столько конкретных фамилий... о-о-о! Не могу сказать, что вторые обязательно выздоравливали, а первые загибались. Часто бывало наоборот.
Видать, в каждом из нас заложен некий внутренний механизм, на который, кроме лекарств, действует что-то, что к медицине и тем более к фармакологической химии никакого отношения не имеет. Какая-нибудь минутная радость, бывает, сделает больше, чем десяток уколов под лопатку или в "пятую точку опоры", а посещение, доброе слово родного человека ставит на ноги безнадежного больного. Лечить надо не болезнь, не тело, а душу, и если в человеке появляется вера, он выздоравливает, он обязательно выздоравливает. Если же он, подмятый болезнью, сдается, то ему приходит конец.
Впрочем, легко рассуждать тем, кто не лежит в больнице, а сидит дома перед телевизором, держа в руке чашку с душистым чаем "эрл грэй", и куда труднее рассуждать тем, кто побывал и полежал в российской больнице.
У Боброва, человека ещё не старого, набрался целый букет болезней, с которыми надо было либо бороться и для этого свести свою жизнь к режиму, где оказалось бы очень много "нельзя" и лишь два или три "можно": можно дышать воздухом, можно три раза в день потреблять пресную диетическую пищу, все остальное нельзя: нельзя делать резкие движения, нельзя есть мясо, копченую рыбу и яичницу, нельзя пить молоко и пиво, нельзя утром разминаться зарядкой, договориться с приятелем в воскресенье съездить на охоту и так далее. В общем, в результате надо либо жить постыло, либо ждать в любую минуту появления пустоглазой в черном капюшоне с косою в руках.
А болячек у Боброва было, повторяю, полным-полно: шалило сердце, одрябли сосуды, допекала язва желудка, которая мешала ему не то чтобы жить - даже дышать; последние три года она регулярно прихватывала весной и осенью. Бобров пил травяные отвары, килограммами глотал соду, ел какие-то разрекламированные таблетки прямо из кулька, но ничто ему не помогало, желудок болел так, словно в него засовывали раскаленный железный штырь, отказывали почки, особенно левая, истощившаяся, набитая камнями, будто кошелек у "нового русского" долларами, окончательно разладилось сердце и так далее - словом, весь он ослаб, издырявился, хотя возраст у Боброва был некритический - пятьдесят восемь лет.
Читать дальше