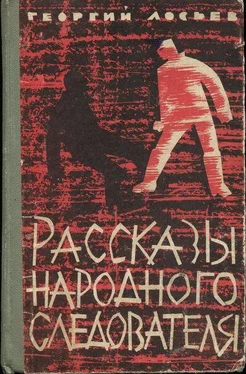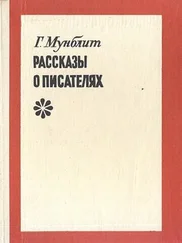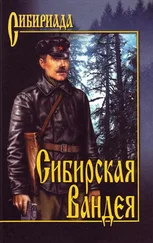Все это знает Галаган.
А Константинов не знает.
Сколько труда, сколько бессонных ночей ушло на то, чтобы распутать заячьи «петли», «сметки» и «двойки» в хитроумных ходах подпольщины! А тут можно одним взмахом, одним ударом: допрос Галагана на обойной бумаге, ночной сбор коммунистов города и – вся контрреволюция в чекистском мешке! Разве это не стоит жизни Галагана?
Пусть с листов допросов и сводок о прежних преступлениях Галагана просвечивают искаженные лица партизанских жен и детей, сжигаемых заживо, мертвые глаза повешенных, запоротых, расстрелянных…
Пусть даже за десятую долю совершенных преступлений Галаган трижды достоин смерти! И даже пусть Константинову вспоминается плац-пустырь Омского кадетского корпуса, где разместились тогда все контрразведки… И сам Константинов вспоминается самому Константинову.
…Руки скручены за спиной проволокой. Лицом уткнули в сарайные бревна, а сзади слышен тот же мерзкий голос, что и сейчас: самодовольный голос Галагана:
– Ну-с… Последний раз: где скрывается Оленич?
Свидетель Константинов молчит.
Выстрел гремит по плацу, отталкиваясь эхом от корпусных стен, а слева от константиновской щеки впивается в дерево пуля. Полтора сантиметра от виска..
И опять:
– Слуша-ай, ты, ба-льшевистская морда! Второй раз я не промажу.
И опять гремит наган. Пуля – в сантиметре.
Третий выстрел на плацу. Пуля отбила крохотную щепочку, щепочка – в надбровье глубокой занозой… До сих пор – след. белый шрамик. После товарищи по камере делали надрез – вытаскивали занозу…
– Ладно! Развяжите ему руки, господа! Ничего, краснокожий, я из тебя Оленича выбью!
…А теперь Константинов думает: если не удастся отстоять у товарищей жизнь Галагана, сам поеду на исполнение после коллегии… Обязательно – сам! Долг платежом красен… Но нет, не в этом суть: в том, чтобы отстоять жизнь этой гадины…
Константинову сравнялось тридцать семь. Был он человеком невысокого роста, с движениями плавными и медлительными, и ходил сутулясь и как-то странно на левый бок, будто навсегда впитав в себя команду: «Левое плечо, вперед!» У него было узкое, строгое лицо. Строгость константиновского лица портила свисавшая на лоб прядь волос, каштановых, но с преждевременной проседью, да пятна чахоточного румянца на скулах. Карие глаза Константинова умели смотреть на собеседника не мигая, так что трудно было человеку с нечистой совестью уйти от этих глаз, проникающих, казалось, в самые сокровенные тайники человеческой скверны… Даже сотрудники губчека, сами мастаки по части следовательского взора, говорили уполномоченному по политпартиям: «Ну, чего уставился? Скребешь своими шарами по душе, словно конским скребком!». Константинов отводил глаза и чуть усмехался.
Был Константинов сыном кустаря-деревообделочника из Кузнецка, но направил свои стопы от юношества не по столярной отцовской тропке, а еще мальчишкой нанялся учеником наборщика в знаменитую Томскую типографию либеральное купца Макушина – читать очень любил – и прошел за пятнадцать лет путь от наборщика до лучшего корректора, которого очень уважал за жажду знаний и самобытный ум сам господин Макушин. Хозяин добился даже приема корректора в университет вольнослушателем, но тут грянула империалистическая война…
С фронта привез Константинов в Сибирь партийный билет РКП (б) и такой особенный взгляд, будто заглянул в самые бездонные глубины падения личности, но, заглянув, не ужаснулся, не удивился, не обиделся за человека и не перепугался, а принял – философски.
После допроса Галагана Константинов пошел к Борису Аркадьевичу.
– Хочешь согласиться на его предложение?
– Да. Понимаешь, Борис Аркадьевич… Пусть живет, черт бы его побрал! Зато сколько жизней мы сохраним, покончив с центром одним ударом! Ведь пока мы будем продолжать разработку, эта плесень будет расти, как домовый грибок.
– Какое-то время – будет. Мы знаем это. Махль мне рассказал о Галагане…
– И…
– Никаких заиканий! Смерть! Единственно, что могу предложить: будешь готовить заседание коллегии – переговори с членами… Прислушайся к их мнению… Ты. с какого года в партии, Константинов?
– С семнадцатого… на фронте вступал.
– А мы с Махлем – с девятьсот пятого. Вступали меж баррикадных боев… И мы с ним в вопросе о Галагане одного мнения.
– А может, с Махлем поговорить?
– Не советую. Если бы он и изменил свое мнение, я первый написал бы Дзержинскому… Тут же не просто служебное разногласие. Знаешь ли ты, как Дзержинский говорил о чекистах? Он говорил, что у чекиста должны быть чистые руки, холодный ум и горячее сердце. А ты свои руки хочешь испачкать торгашеской сделкой! Только вдумайся, осознай…
Читать дальше