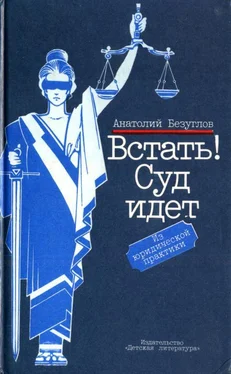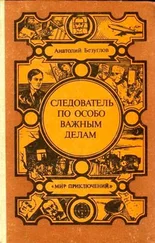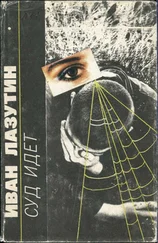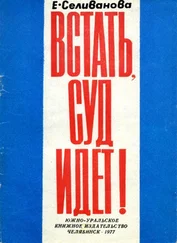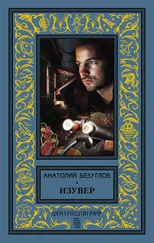— Клава знала об убийстве? — спросил я.
— Говорит, что не знала. Севостьянов сказал ей, что прежде сидел за автомобильную аварию. Плел еще разные сказки, будто по несправедливости в колонии еще срок набавили. Запятнали, мол, человека на всю жизнь. У тебя, говорит, мужик помер, а у меня жены нет. Предложил, как говорится, руку и сердце. А также паспорт и документы покойного мужа. Отцом обещался быть примерным для ее детей. На чем сыграл, подлец!
— Поплакаться да разжалобить они умеют, — подтвердил шофер.
— Постойте, но ведь паспорт сдается в обмен на свидетельство о смерти? — сказал я.
— Повезло ему, — продолжал майор. — Настоящий Лохов еще до смерти потерял паспорт. Как и полагается, подал заявление в милицию, и ему выдали новый. Этот паспорт и сдала жена в загс после смерти мужа. А когда разбирала его оставшиеся бумаги, старый паспорт и отыскался. Вот по этому паспорту и жил Севостьянов. В Тихорецке, где до этого обитала Лохова, ее мужа знали. Поэтому с Севостьяновым они переехали в Бахмачеевскую. Ты мне все рассказывал, что уж больно честная она была. Даже водку продавала строго по постановлению. — Майор усмехнулся. — Не слишком ли примерная?
— Боялась на мелочи попасться, — заметил шофер. — Какой ей смысл химичить, когда в хате такая тьма червонцев!
Меня резанули слова водителя. Я знал, что Клава была «отличником торговли» задолго до приезда в Бахмачеевскую. Имела грамоты, поощрения. Может быть, она оказалась жертвой? Вспомнилось ее лицо, рано состарившееся, с глубокими морщинами возле губ. И как она говорила, что девчонкой ни одной танцульки не пропускала. Потом на ее плечи легла забота о детях — их было трое, о больном муже, который скитался вдалеке от дома, в сибирской тайге. Так и не довелось пожить счастливо. Может быть, она действительно поверила Севостьянову, пошла на обман, чтобы помочь человеку? И самой хотя бы немного ощутить радость! Поэтому она и держала его дома, опасаясь, как бы он опять не сорвался на работе.
Все это я высказал майору.
— Может быть, ты и прав. Разберутся, — сказал Мягкенький.
— То точно, — поддакнул шофер. — Куда везти, товарищ майор, колхоз большой. А где хлеб горит?
Далеко раскинулось поле пшеницы, тучной, золотой, тяжело колышущей созревшими колосьями. Ее тугие волны бежали до края земли, туда, где маленькими точками виднелись комбайны. Заходящее солнце косыми лучами играло в багряном золоте хлебов. У самого горизонта за автомашинами тянулись шлейфы пыли. Среди желтого моря резко выделялась черная плешина, над которой низко повисли облака дыма. Там суетились люди, стояли красные пожарные машины.
— Кажется, уже справились, — сказал майор.
— Кому-то не повезло, — указал на дорогу шофер.
Только тогда я увидел, что навстречу нам быстро двигался белый фургон «Скорой помощи».
Наш «газик», задев краешек мягкой шелестящей стенки, дал ей дорогу.
Пожар вырвал из колхозного поля огромный кусок. Здесь, на самом пепелище, было видно, что́ он мог натворить, развернувшись во всю мощь, подгоняемый сухим, горячим ветром.
Я никогда не видел столько усталых, измученных, перепачканных землей и сажей людей. Они все еще ходили по дымящейся, пышущей жаром земле, колотили чем попало по обгорелой стерне, дышащей едким белым дымом. Последние ослабевшие струи воды из брандспойтов змеями обвивали редкие очажки пламени, шипели, убивая остатки огня. Я ходил между людьми, всматриваясь в их лица, потные от жары и трудной борьбы, перемазанные золой. Тут было много не наших, из соседнего колхоза. На краю поля стояло десятка два грузовиков. Наконец мне удалось разыскать нашего, бахмачеевского. Это был Коля Катаев. В обгоревшей рубашке, с опаленными бровями и волосами, он остервенело бил по земле ватной телогрейкой.
— Коля, как же это? — спросил я.
— Несчастье, Дима, — ответил Коля, бросив на землю истерзанный ватник.
— Слава богу, потушили.
— Несчастье, — повторил Катаев. — Ксения Филипповна…
У меня перед глазами возник белый фургон с красным крестом, белые шапочки медиков. Я схватил комсомольского секретаря за расползавшуюся в моих руках тенниску:
— Что? Что ты говоришь!
Катаев поднял телогрейку и с еще большей злостью принялся колотить по белой шапке дыма. Я сорвал с себя Борькин пиджак и стал бить, бить им по земле, на которой еще ползали кое-где горячие языки.
Это потом уже, из рассказов Коли, секретаря райкома партии и Нассонова выстроилась цельная картина несчастья, постигшего нас.
Читать дальше