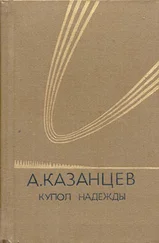* * *
Отправляясь в больницу к Ионычу, я понимал, что, скорее всего, встречу актрисулю, и двигался точно против ветра: вот уж чего-чего, а общаться с ней хотелось в самую последнюю очередь. И в то же время головокружительное весеннее чувство – уж не влюбленность ли? – заставляло трепетать сердце.
Возведенные еще в советские времена грязновато-серые блочные здания больницы угрюмо проглядывают сквозь небольшой соснячок. Надев бахилы, беспрепятственно поднимаюсь по лестнице на второй этаж хирургического корпуса. Возле двери, за которой лежит Ионыч, дежурит охранник в черном костюме и белой рубашке.
– По личному делу, – произношу традиционную фразу, напоминающую пароль.
Охранник вякает по рации. Дверь палаты отворяется и возникает второй черно-белый парнишка. Обхлопав меня, разрешающе кивает на дверь. В его сопровождении захожу в палату.
Бело, тускло, тихо. Две койки. Одна заправлена. На другой запрокинулся исхудалый, гладко выбритый Ионыч. От розовощекого карапуза не осталось и следа. Передо мной наполовину (а то и на три четверти) мертвый человек с обвисшей бледно-желтоватой кожей, заострившимся носом и потусторонним взглядом. Возле него на стуле сидит актрисуля.
Представляя, какой будет наша встреча, я словно въявь видел победную усмешку юной жены Ионыча и свою оторопелую физиономию.
В реальности все оказывается иначе.
Проще, незатейливее.
Актрисуля окидывает меня безразличным усталым взглядом, и я – хотя сердчишко, признаюсь, екает, – не ощущаю и тени смущения. Без косметики, в мышиного цвета кофтенке и черных брючках, она смотрится буднично, по-домашнему. Миловидна, но, прямо скажем, до обольстительной Неизвестной далековато. Черные волосы, как у школьницы, схвачены сзади цветастенькой резинкой.
Вряд ли бы я такую деваху отличил в толпе. А если б и отличил, вряд ли влюбился. Вспоминаю слова, сказанные ею, когда сидела в моей «копейке»: «Я – его последняя любовь… Я старичка и похороню». Кажется, сбывается.
Похоже, она днюет и ночует возле угасающего мужа, которому, недавно еще совсем, изменяла направо и налево, – насколько понимаю, вторая койка предназначена для нее. Что это, запоздалое раскаяние? Или попросту боится, что муженек в завещании не оставит ей ни гроша? Кто разберет, что творится в ее непредсказуемом сердечке? Во всяком случае, не я.
– Ну, как? – спрашиваю шепотом.
– Завтра еще одна операция, – так же тихо отвечает она.
– О чем секретничаете? – раздается еле слышный голос Ионыча.
Едва не вздрагиваю – это похоже на звуки из могилы. Или на завывание призрака. Глазами указываю актрисуле на оцепеневшего в дверях охранника. Она жестом велит ему удалиться.
– Послушайте, – как можно мягче говорю Ионычу, – ведь вы наверняка знаете, кому дорогу перешли. Почему не хотите назвать тех, кто вас заказал?
– До покушения это имело какой-то смысл… – шелестит он. Переводит дыхание и продолжает: – А теперь нет. Не хочу подставлять своих близких…
До чего же диковинно устроено человеческое общество. Этот полутруп, беспомощный, как младенец, упирается, не желает называть душегубов, – и я, здоровый мужик, вынужден смириться.
Выдавив из себя несколько банальных фраз, как остатки зубной пасты из сплющенного тюбика, покидаю Ионыча, актрисулю, погруженную в мертвое беззвучие палату, больницу – и вываливаюсь под пасмурное небо, в грустный мир, в котором моросит полудождь-полуснег.
Вечером у меня рандеву со Скунсом. В прошлое воскресенье он побывал на собрании Братства Солнца, в низенькой хибаре, выстроенной в виде буквы Г, и я выслушиваю его бесхитростный отчет. Заключает он отчет словами:
– А ведь это правда.
– Что именно?
– То, что говорил Магистр. Это самая настоящая правда. Истинная. – И он смотрит на меня детскими светлыми глазами, видевшими столько грязи и зла.
– Что ж, – не желая вступать с ним в прения, говорю я, – свою работу ты выполнил. Дальше – мои проблемы. Тебя подвезти?
– Сам дойду, – отвечает Скунс, и по его независимому голосу понимаю: с этим униженным, продающим свое тело существом происходит то же, что и с Мусей, – в нем пробуждается человек.
* * *
Под нашими (моим и Акулыча) задами – сработанные топором крепкие стулья пивбара.
В этом пище-питейном заведении я не был года три. Особых изменений здесь не произошло, лишь слегка освежили светло-бежевые стены, которые по-прежнему украшают ностальгические натюрморты: знакомая с совковых времен объемистая стеклянная кружка пива и подобающий закусон, сулящий незабываемое гастрономическое наслаждение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу