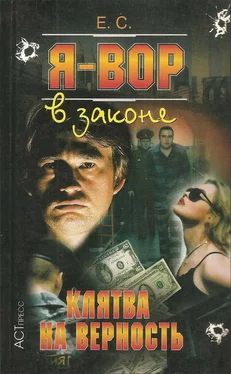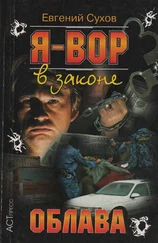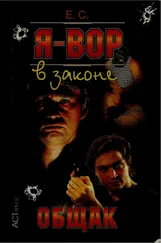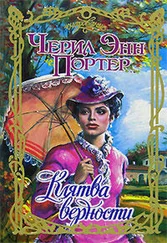Сквозь очки в истертой костяной оправе проницательные глаза начальника колонии уставились на рослого старшину.
— Ну разумеется, дорогой мой Петренко, вот сейчас мы отбросим все текущие дела и займемся перевоспитанием нашего юного бунтаря. Мы ведь всего-навсего располагаем контингентом малолетних преступников в пятьсот человек, и они все могут подождать. Не говоря уже о хозяйственных делах колонии, о подготовке к встрече комиссии из министерства, которую обещают к. нам направить со дня на день.
Подполковник помолчал, давая возможность Петренко оценить его саркастическое чувство юмора, но туповатый старшина глядел преданным собачьим взглядом на начальника. Сапожков вздохнул и, отложив газету в сторону, махнул рукой:
— Ладно, Петренко, приведи ко мне этого новичка — познакомимся!
Когда минут через двадцать Смурова ввели к нему в кабинет, он бросил на него лишь один взгляд — и сразу все понял. Крепкий орех, тут сомневаться не приходится! Хлопот с ним не оберешься! Точно так же, как старшина Петренко, подполковник Сапожков был неприятно поражен взглядом… волчонка. Да, Петренко дал точное определение: именно волчонка. Кивком головы приказав сержанту, который привел Смурова, покинуть кабинет, Сапожков стал молча изучать пацаненка. Он предварительно заглянул в дело осужденного, которое сейчас лежало перед ним: Смуров Владислав Евгеньевич… год рождения 1958, отец… вор-рецидивист… убит… мать… судима за растрату… девятый класс казанской средней школы… статья… осужден…
Сапожков вдруг заметил, что пацан отошел к стене и внимательно рассматривает фотографии, сделанные во время последнего ленинского субботника в колонии.
— Кто разрешил сходить с места? — глухо рявкнул Сапожков, не терпевший самоуправства на вверенной ему территории. — Я не давал тебе команды!
Пронзительный колючий взгляд резко впился в подполковничьи глаза, и новичок тихо отрезал — точно нож всадил:
— А ты кто такой, чтобы мне команды отдавать?
Подполковник Сапожков сглотнул слюну, не зная, как отреагировать на такую неслыханную наглость. Он испытывал странное чувство, глядя в серо-зеленые зрачки Смурова, — не то робость, не то любопытство. И это совсем новое ощущение его почему-то забавляло. Ну и взгляд — и впрямь волчонок!
Пацан кивнул на развешенные по стене фотографии.
— Это колония? Здесь мне придется париться три года?
— Да, пока тебе не стукнет восемнадцать, — насмешливо отозвался Сапожков. — Потом тебя переведут досиживать во взрослую колонию. Раньше по уголовке привлекался? По полной сел в первый раз?
Молчание. Смуров продолжал медленно переходить от снимка к снимку. Такое вопиющее нарушение порядка забавляло подполковника все больше.
«Он это делает нарочно, — догадался Сапожков. — Он не отвечает на вопросы не потому, что его так заинтересовали мои фотки, а просто так он хочет дать мне понять, что намерен вести нашу беседу по своему усмотрению. Ну поглядим…»
Подполковник покачал головой. Его перестало все это забавлять, в душе закипела ярость. Но он сдержался.
— Ты не ответил на мой вопрос.
— Накакой из двух? — подал голос осужденный.
— Из двух? — не понял Сапожков.
— Вы спросили, привлекался ли я и первый ли раз сел.
— Ну?
— Нет. Да.
Паренек перешел к другой стене. Двигался он чуть прихрамывая. В следующую секунду подполковника Сапожкова охватило чувство жалости. И это его больше всего удивило.
— Ты чего хромаешь? Подбили? Мне доложили, что ты в вагоне при транспортировке устроил драку.
— Не помню, — впив свой острый дерзкий взгляд в начальника колонии, ответил Смуров. — Там все дрались. Темно было.
…Перед глазами возник «столыпинский» вагон, разделенный на девять купе, четыре из которых занимали солдаты, а в трех, отделенных от прохода сплошной косой решеткой, набили по двадцать человек. И это при том, что два купе были пустыми. В переполненном купе все теснились, как шпроты в банке, и на каждого, кому вздумалось отвоевать себе побольше жизненного пространства, тут же сыпался град кулачных ударов. Будущие зэки, кому не досталось удобных мест на нижних полках, сидели скрючившись на полу или лежали пластом на багажных полках под самым потолком. На средней полке, соединенной в сплошные нары, залегли пятеро самых ушлых — на зависть тем, кто остался внизу. А Смуров оставался как раз внизу. Теснота его не смущала: ему было решительно все равно, что происходит с ним. После вынесения приговора он впал в полнейшую апатию. Он чувствовал себя опустошенным. Если бы вдруг в купе стало просторней, если бы вместо постных рож осужденных подростков перед его глазами вдруг появились мать, школьные друзья, если бы вошли счастливые Фролов и Фазайдулин, которых он отмазал от тюряги, то и тогда, наверное, не нашлось бы для них ни капельки радости — до того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вызвало в его душе яростный протест. Словно бы он сам перед собой сдался, признал свое поражение.
Читать дальше