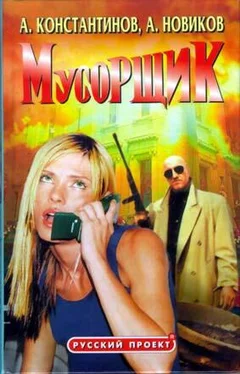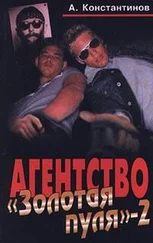— Я не знаю, — ответил он, вглядываясь в ее глаза. Что-то в них было отрешенное, пугающее. Что-то такое, что невозможно объяснить, а можно только почувствовать. — Я не знаю, Катя, но думаю, что теперь ситуация переломилась.
— Да-а? Неужто?
— Да, Катя, да. Теперь ты сможешь вернуться в Россию, в Питер. И жить вместе с сыном. Теперь Наумов просто-напросто прикажет Палычу и тот не посмеет даже приблизиться к тебе.
— Мне этого мало, Андрюша… Мне милостынька ни к чему. Поможешь мне достать эту гадину с Библией?
Обнорский затушил сигарету, помахал ладонью, разгоняя дым.
— Как ты себе это представляешь?
— Просто, Андрюша, как дважды два… Нужно просто стравить Палыча с Наумовым из-за этих бабок.
— Мы это уже, как говорят в школе, проходили, Катюша. Не с деньгами, а с «Абсолютом», что, в общем-то, одно и то же. Ты помнишь, чем кончилось?
— Значит — боишься?
— Боюсь?.. Пожалуй, нет. Пожалуй, теперь я уже ничего не боюсь.
— Как вы бесстрашны, мой бесстрашный лорд!
— Ты можешь иронизировать, Катя, но я говорю совершенно серьезно. И дело тут не в моем бесстрашии… Дело в том, что я пришел к пониманию.
— К пониманию чего? Какие такие тайны тебе открылись? Расскажи.
— Расскажу, Катя… тем более что никаких тайн, на самом-то деле, нет. Просто, пока я сидел, — Катя хохотнула, — … да-да, именно так, Катя, пока я сидел, я понял: ничего не происходит случайно. Человек только думает, что строит свою жизнь и имеет свободу выбора. Внешне все именно так и выглядит: ты можешь поступить в один институт, а можешь — в другой… ты можешь повернуть на перекрестке налево, можешь — направо. Но все равно в конце пути ты выйдешь на ту площадь, на которую ты должен выйти. По-другому не бывает! Теперь я это знаю точно. И погибает человек не в тот момент, когда не знающий промахов снайпер нажимает спуск, а только тогда, когда он все сделал на Земле… вот и все, собственно. Потому и не боюсь.
— Слабенькая философия, Андрюша… с душком-с. Опровергнуть ее очень просто. Но я не буду этого делать. Я просто спрошу у тебя: Палыч, значит, на Земле нужен? Не все еще он сделал, раз Господь его держит и земля носит? А?
— Ну зачем так, Катя? Палыч — сволочь. Убийца. И место его — в тюрьме. Тут двух мнений быть не может. Но мы с тобой не судьи. Нам права этого не дано.
— А ему дано? Он-то как раз вершит людскими судьбами.
Обнорский не знал, что ответить… Он отлично понимал, что та «картина мира», которую он только что изложил, применима не всегда и не ко всем, что все значительно сложнее и попытка привести жизнь к общему знаменателю невозможна. То, что он рассказал Кате, предназначалось для «внутреннего употребления», для себя.
— Ну, так что ты молчишь? — спросил Катин голос из темноты.
— Что сказать? Палыч — преступник, и если я смогу добыть железные факты — я сделаю все, чтобы его закрыть. Хочешь — давай вместе.
— Нет, сочинитель, мне этого мало!
— Катя, ну послушай меня… Вспомни, сколько людей погибло! И в истории с покушением, и в истории с «Абсолютом». Погибли негодяи, но и совершенно невиновные люди тоже. Цель не оправдывает средства. А правота не дает права!
— Слова, Андрюша… слова! Раньше ты был другой.
— Да, я был другой. Я наделал массу ошибок… Но в основе лежала одна-единственная, главная: я считал, что ИМЕЮ ПРАВО! Все остальные ошибки — производные от этой. А в результате погибли люди. Неужели это так трудно понять?
— А я не хочу. Я не хо-чу этого понимать. Понял?
— Ну… тогда извини, — тихо сказал Обнорский.
В спальне было уже совсем темно. Катя щелкнула выключателем, вспыхнул свет торшера, осветил обнаженных мужчину и женщину, сидящих на краю огромной кровати.
— Ты знаешь, — сказал Обнорский, — когда я попал в Кресты, то сначала мне было очень тяжело…
— Знаю, — сказала Катя. — Что такое Кресты, я знаю.
— Нет, я не про то… То, что хорошего там ничего нет, понятно. Тяжело было в другом смысле: я ощущал какую-то несправедливость в этом… Не потому, что мне подбросили пистолет. Здесь-то как раз все ясно и просто, комментариев не требуется. У меня даже злости на них нет. Я совсем другое имею в виду. Если бы Палыч все это организовал, или Бабуин, или кто-то еще из той среды, я бы все понял. А здесь… ни пришей ни пристегни. Почему именно я? А потом я понял: это расплата. Или, если угодно, искупление за то, что я взялся судить других.
— Может, тебе в монахи постричься, Андрюшенька? — спросила Катя и взъерошила волосы у Обнорского на голове.
Читать дальше