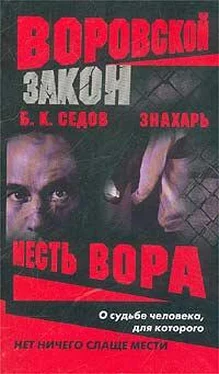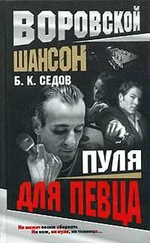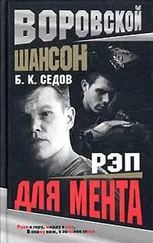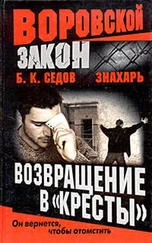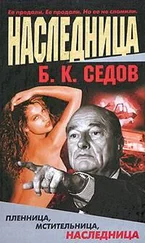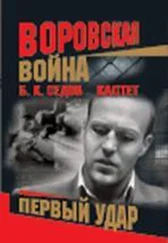Я прикинул, а не стоит ли мне сейчас снова крепко обнять Конфетку, ткнуться губами в точеную смуглую шейку, прикусить мочку аккуратного уха с маленькой золотой сережкой в виде сердечка. Так, чтоб Свету опять тряхануло, словно от легкого электрического разряда; так, чтобы она еще раз прошептала: «Ну и… зачем… ты это… Дени-и-ис…»; так, чтобы прервать этот непростой для меня – да и, пожалуй что, для нее – разговор.
«Почему именно перед ней я должен исповедоваться, и кто она вообще такая, чтобы я вдруг выделил ее из числа остальных?» – на этот вопрос я никогда бы не смог отыскать ответа. Хотя в том, что «никогда бы не смог», возможно, и заключался ответ. Передо мной была девушка, не подпадающая ни под один из знакомых стандартов, по которым я привык сортировать своих друзей и знакомых; девушка-загадка, которую я никак не мог разгадать и, более того, точно знал, что не смогу разгадать вообще. А это, будто соринка в глазу, словно небольшая заноза, которую никак не извлечь из-под кожи, вызывало если не боль, то назойливое неудобство, основательно поганящее жизнь, отвлекающее от других, казалось бы более насущных, проблем.
«И все же, что из себя представляет эта Конфетка? И что у нее есть за крючок, на который она так ловко подцепила меня? И существует ли вообще в реальности подобный крючок, или я, мнительный психопат, его просто придумал?» – мысленно пожал я плечами и решил, что все же не буду сейчас обнимать Свету за хрупкие плечики, покусывать за мочку уха с сережкой в виде сердечка. Не напороться бы ни с того, ни с сего на решительный и совсем неуместный отпор. Уж лучше выждать немного.
– Пойду прилягу. Быть может, удастся заснуть на пару часов, – доложил Конфетке. – Потом припрутся Комаль, Катерина, Гроб и Ворсистый. Пощемить уже не дадут. А мне сегодня еще всю ночь торчать за рулем… Присоединяйся, как домоешь посуду. Если, конечно, захочешь. Я буду рад. – И уже почти было вышел из кухни, как словно на бетонную стену, наткнулся на строгое:
– Погоди!
Я обернулся.
– Ты разве ночью куда-то собрался?
Я так и не смог разобраться, чего же больше присутствовало сейчас в интонации, которой был задан этот вопрос. Разочарования? Злобы? Обиды?
– Завтра утром меня ждут в Твери.
– Ах, значит, в Твери? – Разочарование и обиду у нее в голосе значительно перевешивали злобные нотки. – Зашибись! Спасибо, что хоть счел возможным поставить меня об этом в известность. Ну и когда ж ты пришел к такому решению – ехать сегодня вечером в Тверь? Только что? – Света картинно скрестила на груди руки в красных резиновых перчатках. – Когда наконец определил для себя, что поквитаться со своей бывшей женушкой и брательником гораздо важнее, чем посвятить несколько жалких ночных часов мне? Между прочим, быть может, самых важных часов для меня во всей моей корявой судьбе. Тех часов, которые я так ждала долгие годы! Тех часов, которые, как я мечтала, наивная, возьмут и поставят на ноги всю мою жизнь… И что за дурка! – Конфетка с горечью ухмыльнулась. – Так и не сумела привыкнуть к тому, что все вокруг состоит из обломов.
– Свет, – набрался решимости разинуть рот я. – То, что я должен быть в Твери завтра, было решено уже рано утром. Когда ты еще спала, мне звонил Дачник. У них все готово. Они знают адрес, по которому сейчас находятся Ангелина и Леонид. Ждут только меня, чтобы начинать представление.
– «Представление», – передразнила Конфетка. – Не пойму одного, господин режиссер. Что, так трудно было сразу сказать, что собрался сегодня сваливать в Тверь и этот вопрос уже решен для тебя окончательно? И не пудрить мне, дуре, мозги. Не выслушивать снисходительно, как я, идиотка, вслух мечтаю о том, что, быть может, впервые за всю свою жизнь останусь на ночь у человека, в которого искренне, по-настоящему влюблена. Которому готова отдать всю себя без остатка. Которого столько ждала и вот… вообразила, что наконец дождалась. – Конфетка широко улыбнулась, выставив напоказ ровный ряд крепких белых зубов. – Совсем забыв о том, что на роду мне, замарашке, написано лишь получать удары и справа и слева, и сзади и спереди, ибо где-то хранится обгорелый пергамент, на котором слезами и кровью прописан мой фатум на долгие годы вперед. И в нем ничего изменить невозможно. Наверное, когда я еще была маленькой, какая-то злая волшебница навела на меня порчу.
Я сделал пару шагов к Конфетке, но она решительно выставила вперед левую руку. И я, будто в далеком детстве играя в «Море волнуется раз…», замер на полушаге. И произнес, стараясь приправить свой голос максимальными дозами искренности. И добавить к ним несколько ноток беспечности:
Читать дальше