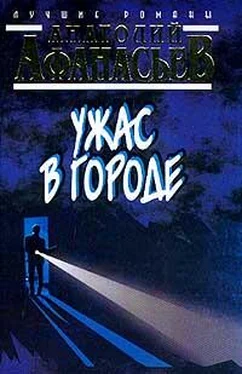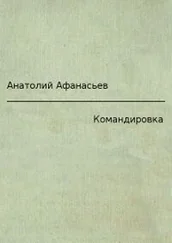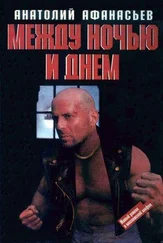Рядом хлопотала Ирина. В свете керосиновой лампы лицо у нее было точно такое, как на иконе Божьей матери, хранившейся у Жакина почему-то в сундуке.
– Скажи, Ира, – обратился к ней Егорка, боясь спугнуть видение. – Вот ты собираешься в Европу, верно? Или в Азию, правильно? И я никак в толк не возьму, тебе, значит, все равно, куда ехать?
Женщина приложила теплый палец к его губам.
– Молчи, ладно? Лежи и молчи. Где у тебя болит?
– Нигде не болит… А ты чего какая-то смурная? Случилось, что ли, чего?
Ответить не успела, Жакин пришел. Егорка ему обрадовался.
– Федор Игнатьевич, могу доложить, что задание ваше выполнил. Шатуна напугал до смерти, воткнул в него пику. Только не пойму, что дальше было. Вроде он меня по уху хряснул. Но как же я сюда добрался?
– Мы тебя с Ириной доставили, голубчика. А то бы замерз в снегу. Ночи нынче холодные.
– Гирейка живой?
– Живой, что ему сделается. Он за нами прибежал…
Медведя, брат, ты не напугал, а убил.
– Да ну?.. То-то я гляжу… Сейчас ночь или утро?
– День, милый, день… Четвертый пошел, как ты спишь. Теперь все в порядке.
У них обоих, у Ирины и у Жакина, размягченные, непроявленные лица, словно они смотрели на него издалека через порошу. Егорка попробовал перевернуться на бок, но туловище будто одеревенело.
– Что же все это значит, Федор Игнатьевич?
– Ничего, – сказал Жакин. – Будем дальше жить.
Так уж накатывало, накатывало и к концу августа докатилось до нового лиха. Мышкин вернулся в Москву благополучную, расфуфыренную, лоснящуюся от гордости за свой новый, капиталистический облик, а в начале сентября покинул столицу, пораженную вирусом страха.
Доллар опять сорвался с поводка, и обезумевший московский люд, еще вчера беззаботно пережевывавший жвачку "Стиморол", ринулся к прилавкам за крупой, макаронами и другими отечественными продуктами. Счастливые добытчики, вернувшись в квартиры с полными сумками муки, спичек и соли, по обыкновению, включили телевизоры и увидели на экране спасителя отечества Черномырдина, но с трудом узнали его. Куда подевался нахрапистый хозяйственник-заклинатель, умевший повернуть самую короткую фразу так, что она становилась бессмысленной. Теперь в его очах сверкали молнии, и голос звучал как иерихонская труба. Суть справедливых обличений сводилась к тому, что стоило ему ненадолго отлучиться (президент для куража поменял его на молодого реформатора Кириенку), как начались такие безобразия, что стыдно смотреть в глаза американцам. Он грозно вопрошал с экрана: что, дескать, началась война? или мор? или что?!
Почему такой внезапный сбой реформы? И в знакомой гипнотической манере сам себе отвечал: я знаю, как делать, и знаю, что делать, и сделаю, и буду делать!
Спасовав под неукротимым напором будущего президента, телеведущий робко поинтересовался его мнением о русских фашистах, которые собрались на шабаш в Краснодаре. Мол, будет ли на них какая-то управа или уже не будет? Ведь, по мнению большинства телезрителей, если нацисты придут к власти, то тогда вообще… Спаситель отечества после этого вопроса впал в натуральную истерику, помянул недобрым словом Явлинского, Зюганова, Лебедя и всех, кого смог вспомнить, и долго, выкрикивая нечленораздельные фразы, грозил кулаком неизвестно кому. Телеведущему пришлось прекратить передачу.
.К вечеру обыватель понял, что зимой его ожидает голод, а также – возвращение косноязычного спасителя, поэтому опять устремился в магазины, чтобы запасти еще чего-нибудь впрок, но, увидев новые ценники, остолбенел. Даже любимая жвачка зашкалила, достигнув недосягаемой планки, вдобавок коммерческие банки, где у москвичей лежали гробовые деньги, вывесили повсеместно таблички: закрыто на дефолт.
В столице наступило всеобщее помутнение умов, похожее на эпидемию. По ночам в городе царила зловещая тишина, как в огромном морге, нарушаемая лишь истошными воплями запоздалых путников. Да еще стаи неведомых грызунов, то ли крыс, то ли сусликов, вырвавшиеся из подземелья, каждую ночь пытались прорваться от станции метро "Владыкино" к центру, сметая на пути все помойки вместе с пенсионерами, мирно дремлющими в ожидании утреннего подвоза объедков. Шикарные иномарки проплывали по улицам, подобно сумеречным глубоководным рыбам.
В разных концах города одновременно запылали пожары (чеченский след), какой-то мужик, приезжий из Тулы, расположился с грузовиком неподалеку от Лобного места и продавал пшеницу по пять рублей за ведро.
Читать дальше