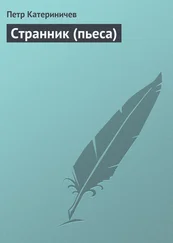Хлопанье их крыльев, противный, визгливый клекот, каким они словно переругивались, как крикливые тетки неведомо какой национальности на всеплеменном базаре, и зудение перламутровых мух-трупоедов — все это было и видно, и слышно на блокпосту, и я до боли зажимал уши ладонями, уткнувшись взглядом в коричнево-серую пыль под ногами… Ни есть, ни пить я не мог уже несколько дней, даже перестал ждать, когда нас сменят; и каждый раз, когда вспоминал о лежащем там, на склоне, судорога сводила пустой желудок острой режущей болью, я хватался за живот руками, и тогда высокий, визгливый клекот птиц бил по перепонкам, и я падал на землю, подтянув колени к подбородку и снова зажав уши так, будто стремился раздавить, расплющить собственную голову.
…А потом был сладковатый дым анаши. И мир становился тупым и серым. И долго, очень долго оставался таким, чтобы к ночи превратиться в туманное забытье, похожее на раннюю московскую осень, прозрачно-дождливую, с ясным небом, с прохладой продуваемой всеми ветрами березовой рощицы на взгорке, с золотыми монетками листьев, с запахом прелой земли и близкого скорого снега… Утром приехали двое сержантов-"дедков". Уж такое было их «негритянское счастье» — сразу после двухмесячной учебки попасть в Афган, прослужить здесь все два года срочной и стать тем, чем стали, — волками этих гор! Первое, что они сделали, это обматерили нашего лейтенантика, потом один из них подошел к пулемету, прицелился и… Крупнокалиберные пули в полминуты превратили разлагающийся труп на склоне в ничто, в пыль. Черные птицы взлетели, заклекотали недовольно, но кружить над блокпостом не стали — тихо и медленно отвалили за гору и исчезли.
Такой была первая смерть, которую я видел на войне близко. С тех пор она не сделалась краше.
Маэстро теперь уже сам выудил из пачки сигарету, чиркнул кремнем, аккуратно прикрыв огонек ладонью, затянулся несколько раз кряду, не выпуская фильтр из губ. Судя по тому, как дрожали его руки, все эти манипуляции стоили ему усилий и боли, но выглядеть слабым он не желал. Затушил сигарету одним движением, произнес едва слышно:
— Мы все, девочка, ты слышишь, все состоим из таких жутких, больных воспоминаний… Но загоняем их далеко-далеко, потому что и жить с ними невмоготу, и умереть без них просто. Вот мы и наваливаем сверху всякий хлам: ненужные сплетни, глупые сериальные переживания, нелепые обиды и ссоры — и таскаем их в усталой памяти беспрестанно, как короб на костлявой спине… Лишь бы не помнить того, что смертны. — Он вздохнул тяжело, воздух с сипением выходил из легких. — К чему я тебе это говорю, девочка? Не повторяй моих ошибок; на войне не скроешься от жизни, как не спрячешься от нее в нудной и монотонной серости будней. Не забывай об этом, девочка… Будь мудрой. Живи.
Аля вздрогнула. Ей стало не по себе, но и какие-то слова утешения или ободрения, обращенные к Маэстро, показались сейчас совершенно неуместными и лживыми.
— Ты не думай, девочка, я не сдался. Просто… я слишком хорошо знаю, что со мной. И сколько мне осталось. Я так часто видел смерть, что не могу сейчас ее не узнать… Помнишь у Есенина? «Черный человек на постель мне садится, черный человек спать не дает мне всю ночь…» Или у Гумилева? «И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувши в густом плюще…»
Когда-то я очень хотел сыграть Гамлета… Теперь… Зажги мне, пожалуйста, еще сигарету… У меня деревенеют руки, — Маэстро… извини… Мне нужно спросить… Аля чувствовала, как сердце ее словно падает в бездну; слезы застилали глаза, степь была темной и безмолвной, ночь превращалась в сумерки, растворяя в себе все сущее, и лишь где-то там, вдалеке, угадывалось море, и было слышно его тихое, сонное дыхание, его мощь, его спокойная леность… Море было живое. И все же — сердце продолжало трепетать, словно над бездной: окружающий мир был слишком похож на мираж, на фантастическую декорацию, и Але вдруг показалось, что и она и Маэстро участвуют в очередном акте пьесы, прописанной незаурядным, но безжалостным гением.
Впрочем… Каждый гений безжалостен уже потому, что правдив. Аля знала это. И все же, все же…
— Влад… Но ты же не умрешь, правда?..
— «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет…» — попытался шутить Маэстро, но кровавая пена снова запузырилась на губах… Слова давались ему с трудом: лицо сделалось даже не серым — восковым, как посмертная маска; он прошептал одними губами:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу