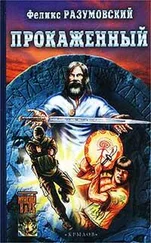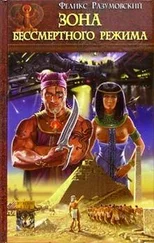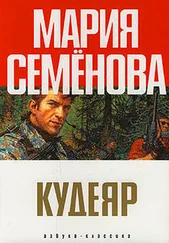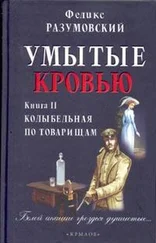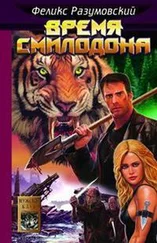Густо рассыпав соль по столу, положили Алену Борисовну спиною кверху, и, когда она сердешная начала извиваться, аки уж на сковородке горячей, Федька-то Сипатый принялся хлестать ее не шутейно уже, с каждым взмахом не кожи ошметки, а клочья нежной девичьей плоти разлетались по всем сторонам, и истошные женские стоны скоро иссякли: дочь боярская от стыда и мученья преставилась.
— А хороша была девка! — Хованский, сам не ведая зачем, приподнял за косу поникшую бессильно голову и, взглянув на искаженное смертной мукой лицо жертвы своей, внезапно услышал в дальнем углу какое-то невнятное бормотанье:
— Кулла! Кулла! Ослепи Никитку Хованского, раздуй его утробу толще угольной ямы, засуши его тело тоньше луговой травы. Умори его скорее змеи-медяницы. — Дряхлая, беззубая мамка Васильевна, нянчившая еще самого Овчину-Оболенского, чертила клюкой в воздухе странные знаки.
Вытащив старую ведьму из-за печки, опричник швырнул ее невесомое, иссохшее тело на пол:
— За волшбу свою будешь по грудь в землю зарыта.
— Волны пенные, подымайтеся, тучи черные, собирайтеся! — Голос Васильевны внезапно сделался звонким, как у молодухи, и, исхитрившись, она ловко плюнула опричнику на носок сафьянового ярко-желтого сапога: — Будь же ты проклят, Никитка Хованский, и род твой, и дети твои с этого дня и вовеки веков! Бду, бду, бду!
— Собака! — Вжикнула выхваченная из ножен сабля, а была она у опричника работы не нашей, сарацинской, с елманью, и, развалив надвое бесплотное старушечье тело, он вытер о него оплеванный сапог. — Надо было сжечь тебя на медленном огне, карга старая, чтобы каркать неповадно было.
Между тем зарево над поместьем боярина Овчины-Оболенского начало бледнеть, уже лошади были навьючены знатной добычей, и, оставив мысль прибыть в первопрестольную к заутрене, Хованский вскочил на статного каракового жеребца:
— Ha-конь! Гойда!
Верстах в трех от Москвы стояла на заставе воинская стража. Крикнув бешено заспанному сторожевому, сдуру не разобравшему, кто едет:
— Раздвинься, страдник! — он еще издали услышал, как принялись малиново благовестить колокола храма Покрова Богоматери.
«Господи Исусе Христе, помилуй мя, грешного». — Опричник осенил себя крестом трепетно — очень уж не хотелось лизать ему сковороды в аду, — и, казалось, спаситель внял Никитке Хованскому. Когда тот с поплечниками переехал через Москву-реку по зыбкому, такому живому, что кони замочили копыта, мосту, первым повстречался ему человек странный, босой, одетый, не глядя на утреннюю сырость, в одну только полотняную рубаху. Редкие сальные волосы висли сосульками по плечам его, по жидкой, раздвинутой детской улыбкой бороденке сочился слюнявый ручеек, а в руках божий человек держал грязную рубашку.
— Куда бежишь, преподобный? На, помолись за меня, Вася. — В другорядь перекрестившись, Хованский щедро отсыпал юродивому серебра.
— Некогда, душко. Рубашку надобно помыть. Пригодится скоро. — Божий человек, смахнув набежавшую слезу, разжал пальцы, и монеты звеня покатились по мостовой.
— Бог с тобой, блаженный! — В третий раз сотворив крестное знамение, опричник махнул рукой поплечникам: — Гойда! — и в это самое мгновение внезапно свет Божий померк.
Невесть откуда черная как смоль туча опустилась на многоцветные и золотые венцы храмов, и вместо лучей утреннего солнца все вокруг осветилось полыханием молний.
— Уноси голову! — Никита Хованский пригнулся к самой конской шее и, сразу же потеряв свою рысью шапку, бешено принялся понукать испугавшегося жеребца.
Однако караковый, всхрапывая и прядая ушами, пятился, а тем временем налетел страшный ветер, такой, что на Москве-реке пошли саженные волны. Зажмурившись от адского грохота, начальный человек опричный белого света не узрел более. Грянул гром, нестерпимо полыхнула молния, и сорвавшаяся с башни на Кулишке тяжелая кровля с легкостью отсекла ему голову. Рухнуло, потеряв стремя, под ноги коня окровавленное тело, бешено заржав, вскинулся на дыбы жеребец, а черная туча, так и не пролившись дождем, начала потихоньку уплывать вдаль.
Не успели поплечники Никитки Хованского опомниться, как во внезапно повисшей тишине негромко звякнули вериги, послышалось шарканье босых ног по мостовой, и, пустив слюну по бороде, божий человек подал опричникам мокрую рубаху:
— Оденьте мертвеца, это я помыл для него.
Уже начало темнеть, когда за Харьковом, на одном из перегонов, поезд встал. Со стороны паровоза, как водится, грохнули выстрелы, и скоро в вагон вошли гарны хлопцы в папахах и синих свитках:
Читать дальше