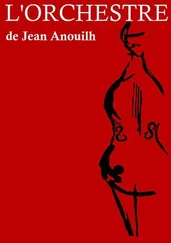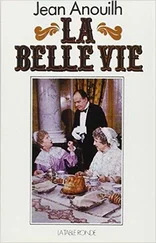Входит его сын Тото двадцати лет.
Тото. Слушай, пап, ты мне не одолжишь на вечер свои лакированные туфли?
Леон. А как же я?
Тото. Ну не будь таким эгоистом! Ты ж все равно привязан. Постоишь в носках. Тебя на сколько приговорили?
Леон. На пятнадцать дней.
Тото. Это что, за шуры-муры с горничной?
Леон. Да.
Тото. Небось теперь кошки на душе скребут? С такой-то крокодилой…
Леон обиженно молчит.
Давай, гони туфли. Будь так любезен, как говорили в твоей молодости.
Леон (надувшись) . Не дам. Мои туфли. У меня и так ничего своего не осталось. Дождись моей смерти.
Тото. Не люблю ждать. А если я возьму их у тебя силой?
Леон. Ты хочешь расправиться с беспомощным человеком?
Тото. Да.
Леон. И тебе не совестно?
Тото. Нет.
Леон(с горечью) . Прекрасно! Прекрасно!
Тото (не понимая) . Что прекрасно?
Леон. Ты уже взрослый, и я могу сказать тебе всю правду о твоем рождении.
Тото. Правду?
Леон. Я тогда вычитал в одном научном журнале, что природа посылает наследника слабейшему из супругов. Сыновья рождаются у мужчин, которых притесняют жены.
Тото. Значит, ты спал и видел, когда я наконец приду к тебе на помощь? Несколько опрометчиво с твоей стороны.
Леон (думая о своем) . У меня тогда был бурный роман с очаровательной комедианточкой. Пожалуй, не стоит произносить вслух ее имя, но ты ее знаешь, она заведует французской кафедрой.
Тото (ледяным тоном) . Избавь меня, пожалуйста, от этих мерзких подробностей. Я все-таки твой сын.
Леон (вздыхая) . Увы!.. Я был по уши в не влюблен, в мою малышку. Видел бы ты сейчас, вот бы посмеялся! Она проводила в мое мансарде целый вечер, и все это время.
Тото. Короче, старина. Кому нужны эти выкладки? К тому же они наверняка завышены.
Леон (мечтательно) . Ах, какое это было время! Возвращаюсь я, значит, от нее домой около полуночи. Я был выжат как лимон, мне и в голову не могло прийти, что я еще на что-то способен…
Тото (хватает его за галстук) . Я не мог быть зачат вот так, негодяй!
Леон (смеясь ему в лицо) . Ты уж меня прости мой мальчик, но тут сработал принцип, открытый учеными: в ту минуту я был слабейшим!
Тото (трясет его в ярости) . Подлец! Тряпка! А ну, гони туфли, живо! И можешь не поджимать пальцы, я все равно сдеру их с тебя. Как был тряпкой, так тряпкой и остался! А теперь выкладывай монеты!
Леон (пытаясь сохранить достоинство) . У меня связаны руки.
Тото. Ничего, я знаю, где ты их держишь. Вот здесь… Мерси. Я взял двадцать бумажек. Одну я оставил тебе на разживу, чтобы ты мог поступить как подобает кавалеру, когда маман тебя отвяжет. (Надевает туфли.)
Леон (чуть не плача) . Неужели ты меня совсем не любишь, мой мальчик?
Тото (холодно) . Не понимаю, кто мог тебе сказать такую глупость. (Уходит.)
Леон. Это я во всем виноват. Я им совершенно не занимался. Детей надо воспитывать на положительном примере. (Начинает как бы звать котят.) Кис, кис, кис! Идите сюда, мои маленькие! Идите ко мне, мои ненаглядные грешки! Сейчас я вас буду кормить. Не все сразу, маленькие обжоры. (На мгновение задумывается и вдруг простодушно восклицает.) Но если разобраться, в глубине души я всегда был моралистом! Достаточно прочитать все, что я написал. Все мои заметки в «Фигаро»… Со всех уголков страны, из Бретани и Кантали, ко мне приходили десятки писем, и везде меня просили об одном: «Продолжайте борьбу! Кто-то должен же сражаться со всей этой порнографией!» А одна преподавательница из Дижона написала: «Ваша ручка — это копье! Вы наш Георгий Победоносец, который поразит дракона!» Да, я всегда стоял за семью, за чувство долга… Я доказывал это каждой своей строкой, по десять франков за строчку. Моя последовательная позиция стоила мне Нобелевской премии. (Срываясь на крик.) Все равно я бы от нее отказался, как Сартр… только по причинам прямо противоположным! (Пауза.) Не много найдется в мире писателей, которые бы так высоко держали голову! Я был героем Сопротивления. Во время оккупации я печатался под чужим именем… Так чего же они от меня хотят? (Кричит.) Ну, я жду ответа! Ваше молчание лишь подтверждает мою правоту. (С презрительной улыбкой.) Говорите, я спал с горничной? Да, спал! Это был мой гражданский долг… Стань я любовником какой-нибудь знаменитой актрисы, вы бы не сказали ни звука. В Париже это считается хорошим тоном. Но пойти на близость с народом, и не только на словах… какой ужас! Не правда ли? Фи! (С горьким откровением.) Да, я писал в «Фигаро», но в глубине души я всегда был левым. И этой левизны они мне не могут простить!..
Читать дальше
![Жан Ануй Генералы в юбках [=Штаны] обложка книги](/books/78205/zhan-anuj-generaly-v-yubkah-shtany-cover.webp)

![Жан Ануй - Нас обвенчает прилив… [Ромео и Жанетта]](/books/78190/zhan-anuj-nas-obvenchaet-priliv-romeo-i-zhanetta-thumb.webp)

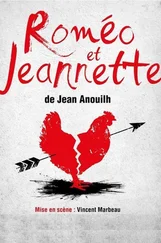

![Жан Ануй - Томас Бекет [=Бекет, или Честь Божья]](/books/78196/zhan-anuj-tomas-beket-beket-ili-chest-bozhya-thumb.webp)