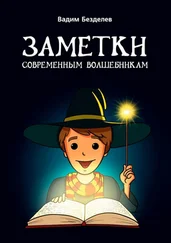В древнегреческой мифологии непревзойденным специалистом по такого рода изменениям скрипта был Аполлон. Достаточно вспомнить пару стандартных историй с девушками, которые пообещали ему секс в обмен на исполненное желание, а после того, как получали желаемое, «динамили» бога. Кумекая Сивилла, пожелавшая столько лет жизни, сколько песчинок у нее в горсти, забыла оговорить вечную молодость, и в итоге через несколько веков единственным ее желанием осталось желание умереть. Кассандра пожелала дар предвиденья, который Аполлон ей даровал, но оговорил тремя условиями, превратившими всю ее дальнейшую жизнь в кошмар: 1) она будет предвидеть только плохое (что создает ей прекрасный и постоянно действующий эмоциональный фон); 2) она не сможет не сказать любому встреченному человеку о том, что плохого ждет его в будущем (что автоматически превращает ее в изгоя); 3) никто и никогда не будет ей верить (что превращает ее в губительницу собственной семьи и собственного народа, поскольку она знает, чем и как кончится Троянская война, и не может не сказать этого, скажем, в эпизодах с отправкой Париса в Спарту или с Троянским конем, но как только она произносит предупреждение, люди поступают вопреки ему).
К 1949 году целый ряд американских картин, снятых в этом жанре, шел в советском прокате под названием «трофейных», вне зависимости от того, откуда именно они попали в СССР в конце 1930-х — середине 1940-х годов («Дилижанс» (1939) (в советском прокате «Путешествие будет опасным») и «Моя дорогая Клементина» (1946) Джона Форда, «Знак Зорро» (1940) Рубена Маму ляна (в советском прокате «Таинственный знак»). Немые вестерны активно шли на советских экранах в 1920-е годы (в том числе «Знак Зорро» (1920) Фреда Нибло и «Сын Зорро» (1925) Дональда Криспа, оба с Дугласом Фэрбэнксом в главной роли). Так что прямые отсылки к этой традиции, рассчитанные в том числе и на уже сложившуюся систему зрительских ожиданий, в «Алитете» вполне понятны. Впрочем, был и свой извод этого жанра, который начал складываться еще в те же 1920-е годы в фильмах Ивана Перистиани. Подробнее о традиции советского «истерна» см.: Левченко Я. Жанр как поле возможностей: случай вестерна в СССР // Случайность и непредсказуемость в истории культуры. Таллин: TLU, 2013. С. 407–431. Продуманные отсылки к традиции вестерна хорошо заметны также и в «Необычайных приключениях мистера Веста в стране большевиков» (1924) Льва Кулешова, где один из персонажей, ковбой Джедди (в исполнении Бориса Барнета) по большому счету нужен в сюжете только для того, чтобы эти отсылки выстроились в самостоятельный план.
Прежде всего, конечно, речь в данном случае должна идти о Зейне Грее, одном из первых авторов, работавших в жанре литературного вестерна, чьи книги активно переводились на русский язык как в 1910-е, так и в 1920-е годы; а также о Томасе Майн Риде (вне зависимости от национальной принадлежности воспринимавшемся как сугубо американский автор), чьи книги были невероятно популярны еще в дореволюционной России.
Артист Андрей Абрикосов.
Этот персонаж в фильме Марка Донского в буквальном смысле слова является носителем «слова Партии»: в одном из эпизодов он признается, что всегда носит с собой газету «Правда» со статьей Сталина по национальному вопросу. Характерно также, что герою дана фамилия, которую в советской приключенческой традиции нейтральной назвать никак нельзя. Ее носил аналогичный с точки зрения сюжетного и идеологического функционала персонаж в романе А. Н. Толстого «Аэлита» (1923; а также и в одноименном фильме Якова Протазанова, 1924). В «Алитете» сохранено даже отчество главного героя, и только имя со «старорежимного» Мстислав заменено на более подобающее, Никита. Любопытно, что с точки зрения советского колониального дискурса Чукотка в каком-то смысле «идентична» Марсу — как предельно далекая точка в потенциально доступном пространстве, населенная «другими», «интересная» с точки зрения приключенческого сюжета и нуждающаяся в экспорте революционных идей.
Был подобный персонаж, конечно же, и в «Аэлите», «стихийный боец» Алексей Гусев.
Артист Михаил Кононов. Анализ фильма с особым акцентом на специфический выбор актера на главную роль см.: Михайлин В. Ю., Беляева Г. А. Если не будете как дети: Деконструкция «исторического» дискурса в фильме Алексея Коренева «Большая перемена» // Неприкосновенный запас. 2013. № 4 (90). С. 245–262 (249–251). Здесь же — анализ скрытых, не предназначенных ни для массового зрителя, ни для цензуры (в силу своей запредельной рискованности даже для вегетарианской эпохи середины шестидесятых) отсылок еще к одному прецедентному для «Начальника Чукотки» тексту — гоголевскому «Ревизору». Отсылки эти, будучи восприняты в полном объеме, превращают картину в злой фарс, главной темой которого становятся претензии отечественных элит на цивилизаторскую миссию в отношении «народа».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
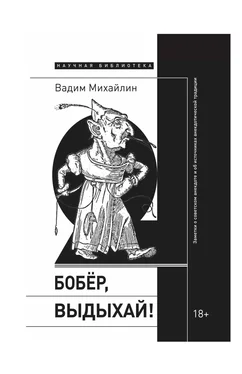

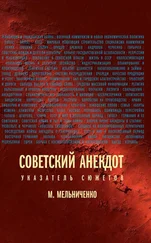


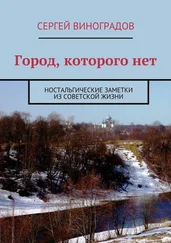
![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/403312/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918-thumb.webp)