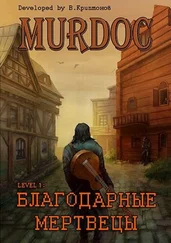– Оставлю ее вам, сеньор Риверос, можете играть, сколько захотите, но помните, что этот бобовый суп – последний бобовый суп. Эта кружка воды – последняя кружка. Но только не подумайте, сеньор, что вам придется тащить к веревке тяжеленную привинченную к полу шконку! Нет-нет, сеньор, я принес вам легкую и удобную табуреточку. Чуть качнитесь на ней, и она развалится, потому будьте благоразумны, ведь и табуреточка – единственная.
– Эй, Рикардо! – крикнул я, когда добродушный тюремщик запирал клетку. – Сейчас примерно половина одиннадцатого утра?
Рикардо вынул из кармана золотые часы, отщелкнул крышку.
– Именно так, сеньор Риверос.
– Точно сколько?
– Десять тридцать четыре. Нет… Уже тридцать пять.
Я кивнул. Рикардо что-то продолжал говорить, но я слушал не его. Я слушал биение сердца. Когда погасли лампы, я разлепил пересохшие губы и шепнул:
– Десять сорок одна и двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять…
Это был день боли, жажды и размеренных ударов сердца. Я лежал неподвижно, вглядываясь в темноту, и порой мне казалось, что я вижу веревку, свившуюся петлей. Она болталась, будто ветер колыхал ее. Она манила.
Ровно в три часа я начал разрабатывать правую руку. От первых движений боль была адской, но к четырем я привык. В половине пятого аккуратно сел, без пятнадцати встал. До шести ходил по камере, повышая частоту сердечных сокращений. Потом выпил воды.
К тому моменту, когда я поставил шаткий табурет под петлю, до которой мог дотянуться вытянутой рукой, чувство времени уже не зависело от сердца. Я просто знал, что сейчас половина шестого.
Несмотря на полную мою бездарность, отец все же дал мне традиционное образование, куда входила и физподготовка. Итак, я умел бегать, прыгать, приседать, отжиматься и подтягиваться, но, что еще важнее, умел лазать по канату. Правда, никогда не приходилось делать этого с пульсирующей от боли рукой, но уютная камера просто располагала ко всему новому и неизведанному. После трех неуклюжих попыток я понял, что руки меня не вытянут, а четвертый потуг может стать последним для табуретки. Поэтому в двенадцать минут седьмого я прочитал на испанском «Отче наш» и что есть силы прыгнул.
Повис на руках, коленями еле-еле зацепился за вихляющуюся веревку. Даже сквозь пелену парализующей боли я услышал треск, знаменующий конец табуретки.
Будь у меня в голове пояснее, я бы спрыгнул обратно и воспользовался для своих целей обломками. Но одна часть моего сознания корчилась в судорогах, другая считала секунды, а третья, самая крошечная, отчего-то решила объявить войну самой идее самоубийства.
Я подтянул ноги к груди, зашарил ступнями в темноте. Когда руки уже готовы были разжаться, правая нога попала в петлю. Я с облегчением застонал. Сунул туда же левую и встал, давая отдых руке.
– Сеньор Риверос! – почти услышал я печальный голос Рикардо. – Как я мог забыть… В петлю нужно совать голову, а не ноги!
Но это лишь игра воображения.
Шесть тридцать, и я решился. Слившись с веревкой воедино, стараясь использовать правую руку лишь для страховки, я пополз вверх. Между мной и «стрелой» всего сантиметров двадцать, но иногда двадцать сантиметров – это бесконечность. В шесть тридцать две, крепко обняв «стрелу» левой рукой, я тихо заплакал от облегчения. Шесть тридцать четыре – я лежу на «стреле», а подо мной – черная бесконечность.
– Святые угодники, как же я спущусь? – пролепетал я, начав развязывать тугущий узел.
– А как насчет решетки? – Я замер, чувствуя себя последним ослом. Впрочем, чувство быстро прошло. Вспомнив высоту, на которой «стрела» входила в камеру, я понял, что ни за что бы не взобрался сюда по гладким металлическим прутьям А вот слезть – почему нет?
Успокоив себя этой мыслью, я сконцентрировался на узле. Удивительная вещь – веревка! Вся такая мягкая и податливая, делай с ней, что захочешь, а стоит только затянуть узлом, и превращается в камень. К половине восьмого я изодрал пальцы в кровь, но, даже намокнув, узел не желал поддаваться.
Интересно, сколько несчастных своими телами затягивали его? Со сколькими покойниками я сейчас сражаюсь? А ради чего?
Я остановился передохнуть и, посасывая пальцы, представил такую картину. Час ночи. Приходит Джеронимо со своей бандурой. «Ты прыгал?» – спрашивает он. «Прыгал», – отвечаю я. «Красавчик, дай пять!» Хлопок ладони о ладонь, и он уходит, а я начинаю прикидывать, как привязать веревку обратно.
Будь я нормальным, такая мысль повергла бы меня в панику, но я, как-никак, урод, поэтому лишь улыбнулся. А улыбнувшись, придумал новую стратегию. Пришлось опасно свеситься со «стрелы», которую я уже называл «насестом». Зато когда получилось вцепиться зубами в узел, мой эмоциональный двойник прищелкнул пальцами, громко завопил и подпрыгнул. Где ж ты раньше-то был, злодей? Как я тебя звал, когда прощался с папой…
Читать дальше




![Василий Криптонов - Эра Огня 2. Непогашенная свеча [калибрятина]](/books/395274/vasilij-kriptonov-era-ognya-2-nepogashennaya-svecha-thumb.webp)

![Василий Криптонов - Эра Огня 4 - Костёр в ночи [СИ]](/books/398973/vasilij-kriptonov-era-ognya-4-koster-v-nochi-si-thumb.webp)