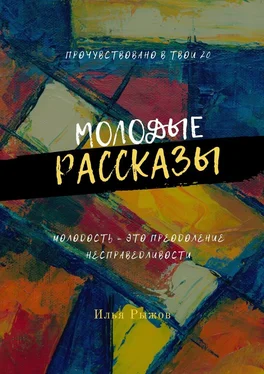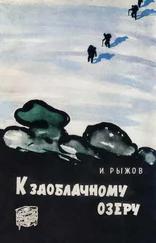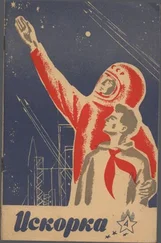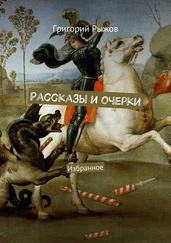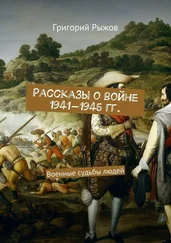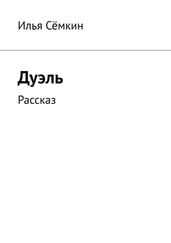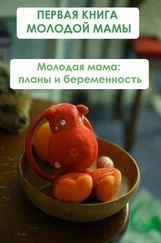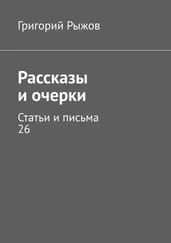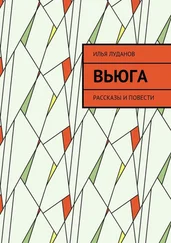Родители пытались донести до девочки, что куда важнее «давать», чем «брать», куда важнее «быть», чем «иметь». Её довольно умный отец часто расходился в философствованиях на темы бытия, развала русской идеи, на божьи темы (причем начать он мог с обычной детской поделки или неудачных любовных отношениях), и конечно, девочка пяти лет мало чего понимала, если вообще что-то понимала. Мать всё время приговаривала: «Не морочь ребёнку голову», – и отец замолкал с извиняющейся улыбкой. Тогда он просто говорил простой пример: «Аглаш, вот смотри. Если я дам тебе эту игрушку, ты будешь рада. И даже если я эту игрушку очень сильно люблю, но тебе она принесет радость, я её всё равно тебе дам. Понимаешь?», – девочка всегда кивала, но всё равно смутно его понимала. Ей нравилось слушать отца, и она всецело ему верила.
Главная особенность России – в том, что «своя рубашка ближе к телу» и «свой среди чужих и чужой среди своих». Иными словами, наши дачные участки огорожены высокими непробиваемыми заборами; сортировать мусор проблематично, лучше выкинуть бутылку на соседний участок… «В Москву! В Москву!» – завет чеховских трёх сестёр оказался заветом всей России. Каждый мечтает попасть в эту крепость, огороженную Третьим транспортным, садовым и бульварным кольцами… Пробиться через эти три бастиона, пробраться в самое сердце – и тогда, и тогда… И тогда – да!
Аглая родилась и выросла на Волге. На широкой, необъятной, уходящей за горизонт. Каждый раз, когда девочка проходила по набережной и видела эту Реку, – ей всегда казалось, что Волга её обнимает, и сама Аглая станет такой же большой, щедрой, необъятной и, конечно, важной в панамке…
Она так и жила и была несчастна.
В садике было аж двадцать детей. С каждым Аглая была знакома, делилась секретами, помогала собирать паззлы, если они не сходились, вместе собирали шишки и каштаны. Она старалась быть отзывчивой и доброй. Пыталась помогать шить, продевать нитку в иголку, но с этим у неё у самой не клеилось, она на это очень досадовала и расстраивалась.
Ей очень нравилась их воспитательница. Марина Витольдовна Грач, сухопарая, высокая, как столб, женщина, с костлявыми руками и зализанными хвостом, всегда носившая длинные в тёмно-фиолетовых и тёмно-бардовых тонах платья с рюшами, только казалось злой и строгой. Как только Аглая её увидела, очень сильно испугалась и подумала, что это какая-то страшная и злобная ведьма, на съедение которой хотят отдать её родители. Но в первый же день, на первом же слове Марины Витольдовны, Аглая поняла, что это добрейшая и милейшая женщина.
– Дети! Давайте понсики кусять! – сказала Марина Витольдовна с полукруглой пряной улыбкой, от которой всё её лицо разошлось в кружках и овалах.
У Марины Витольдовны был очень смешной голос. Не видя её, а только слыша, можно было подумать, что говорит одна из маленьких девочек в саду. Её голосок пищал, всхлипывал тонко и нежно, а когда она чихала, даже воробушек не боялся и не отпрыгивал от неё, а принимал за своего сородича и подлетал к ней пожелать здоровья.
Марина Витольдовна очень приятно улыбалась всем детям, сидела всегда прямо, двигалась медленно, забавно досадовала на погоду: «Ох уж этот дождик! Мокрит и мокрит! Эх, даже не знаю, что же нам поделать сегодня…» Взмахивала руками, как птичка, мотала головой, как куколка, отчего Аглая смеялась и покрывалась румянцем от игрушечной воспитательницы.
Марина Витольдовна была довольно впечатлительной женщиной, и впечатлиться она могла из-за изменившейся погоды или из-за недоеденной каши: «Эх что же это такое!», или «Ох чем же нам позаниматься!», или «Ой, как же вы кашку не кусяете». Она так сильно пищала порой, что шипящие звуки у неё заменялись на «с» или «з». Это забавляло Аглаю, и она думала, что её воспитательница – свистулька.
На самом деле Марина Витольдовна была аристократических кровей. Её прапрадед был потомственным дворянином непонятно толком в каком поколении – то ли в десятом, то ли в одиннадцатом. В революцию семнадцатого года её предки уехали, само собой, за границу, через Европу в Америку. Дед был заслуженным и высококвалифицированным врачом, а бабушка – педагогом с почётной буквы. Так что они не испытывали никаких проблем по жизни, кроме той, что их потомственного семейного поместья больше нет. Экспроприировали его их же кухарки, гувернантки, няньки и рабочие, которые оказались до дури конформны и безмозглы.
Родители Марины Витольдовны пошли по стопам бабушки и дедушки, тоже стали почетными врачами и учителями, путешествовали по всему миру, возили с собой Марину. Бабушка и дедушка так часто говорили о том потомственном поместье, что Марина уже начинала думать, что она тоже там жила. Но когда они заканчивали описывать прекрасное прошлое, Марина возвращалась в настоящее, и ей становилось до скрежета жаль семейной утраты. Поэтому она решилась вернуться в Россию рано или поздно, отыскать семейную усадьбу и возродить в ней род семьи Грач.
Читать дальше