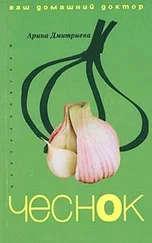Горько было ему, человеку, маленькая душа которого не могла уместить в себе любовь к Риточке – такую большую и неподъемную.
Да и что это за любовь, если Риточка его всерьёз не воспринимает, а подшучивает лишь над ним.
Неполная любовь, неправильная, паршивый обрезок какой-то.
Как хотелось ему подойти к Риточке и заключить её в цепких объятьях, чтобы та успела только головку запрокинуть да выдохнуть свое «ах!».
Но он продолжал сидеть у окна и предвкушать. Предвкушать и сидеть.
Тут он заметил Риточку, выходящую из буфета. Он взглянул на часы. Видимо, рабочий день закончился.
Щёлкнуло что-то у него в голове. Кинулся он к Риточке. Вниз по лестнице наспех, наутёк, кувырком, рывком, резво.
Выбил ногой дверь. Выпрыгнул он в раз. Выбежал к ней, к ней…
Но увидел вдруг, что опоздал. Риточку держал в объятиях какой-то пиджачный тип.
Вернулся он домой, уселся в кресло и не предвкушал с тех пор ничего.
Сегодня я впервые ночевал в лифте.
Когда после долгой утомительной поездки я почти добрался до дому, я застрял в лифте, вернее, не Я застрял (мне не нравится это выражение, кажется, будто я сам в этом виноват), а ЛИФТ застрял между этажами. Кажется, где-то между двенадцатым и тринадцатым.
Я уже достал ключи, зацепив пальцем брелок в виде черепашки. Но что мне было до этой чёртовой черепашки, когда моё тело тряхнуло с чрезвычайной силой, отчего показалось, будто шейные позвонки пробили череп, а моргнувший свет полоснул металлом по глазам.
Но любое происшествие, даже самое чрезвычайное, когда-либо заканчивается, уступая место тяжело дышащему спокойствию. Еще минут пять я продолжал вспоминать всех святых дев, мужей, дедов и прадедов, не упуская из памяти святых младенцев и даже языческого Бога Щура (не знаю, отчего он вообще явился на мои неблаговременные и благо не свершившиеся похороны).
Это напомнило мне о рассказе одного знакомого. О том, как его дед перед смертью начал твердить: «Сельдерей, сельдерей, сельдерей!»
Ничего боле, ни с родными не простился, не помолился, вместо этого в горячке всё бездушный овощ звал. Странная штука смерть. Впрочем, что это я, меня она в этот раз обошла стороной.
Все еще инстинктивно подрагивающая кисть дотянулась до кнопки «связи».
– Да, – тонкие пластинчатые стены лифта отразили голос диспетчера женского пола.
– Зргаствуйте! – скартавил я, и сам удивился – «С чего это я картавлю вдруг? Никогда со мной такого не бывало!», но, решив все же не выходить из роли, продолжил. – Извините, что беспокою, пргескоргбный случай имел место быть.
– Что такое? – равнодушно, с долей апломба, спросила диспетчер.
– Я застргял, вернее застргял не я, а лифт, но, вернее, застргял и я, так как лифт этот внутри содергшит меня…
– Что-то я не поняла, – ответила диспетчер. – Так вы застряли или лифт?
– Оба! – выдохнул я.
– Оба, – выдохнула диспетчер. – Я к вам бригаду вышлю, но когда они приедут, я вам точно сказать не могу. Вы, главное, не переживайте…
«Не переживайте, – передразнил я её про себя. – Легко ей говорить, сидит себе в теплом креслице да слушает, как люди от скуки и неволи мучаются. Вот он – наиредчайший вид садизма!»
Связь оборвалась. Я сел на корточки и прижался к стене лифта, с которой, казалось, сросся, образовав своего рода сложное симбиотическое существо, что-то вроде лишайника. Разожмут дверцы и не заметят меня, ставшего одного цвета со стенкой. Только глаза встрепенутся, рассекут ресницами воздух.
Так и сидел я, и сидел, заламывая пальцы, копошась в воспоминаниях, разглядывая заусенец, мысли о котором подтолкнули меня к рассуждениям об основах метафизики нравственности.
Но, в конце концов, и это мне надоело. Я стал уставать. Уставать от собственной компании, от самого себя. Что не спросишь себя, уже заранее знаешь, что ответишь и хочется сказать себе: «Простой ты, как копейка! Банальностью досыта накормишь!»
Вот и перестал я себя слушать. А чтобы совсем от своего общества скрыться, решил спать лечь. И снилось мне, что я сельдереем на диспетчера замахиваюсь.
Проснулся я от грубых тычков в плечо. И как ненавидел я в тот момент этих иродов! Как хотелось огреть их чем-нибудь, чтобы оставили меня в моём уединении, в моей ракушке, в которой я чист и перламутр, словно жемчуг этакий.
У меня обычная жизнь – в меру счастливая, полная мелких горестей и радостей, с мечтами и устремлениями. Я, окружённая большой семьёй, никогда не была обделена вниманием. Сначала родители, бабушки, дедушки, затем муж, теперь дети – я нужна всем. И, скажу честно, чаще всего это очень приятно. Ведь каждому здравомыслящему человеку нужна любовь, ощущение нужности. Часто в фильмах мы видим такого героя, он несчастен. Он щурится, направляет свой взгляд на свет, смотрит в камеру. У него очень грустные глаза, и нам поневоле хочется его обнять, посочувствовать ему. Мы сопереживаем. Его взгляд говорит: «Моя жизнь пуста без любви». Играет заунывная музыка, герой отворачивается от зрителя и уходит. Пока идут титры, мы видим несчастного героя. Он идёт под дождём, раскрывает зонт, перепрыгивает через лужи, боясь запачкать ботинки и длинный подол пальто.
Читать дальше