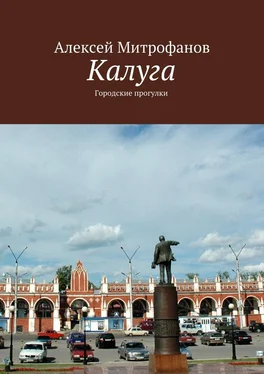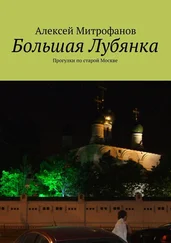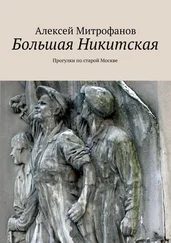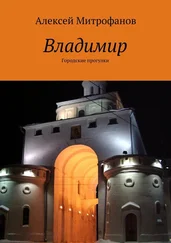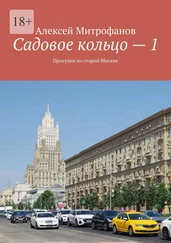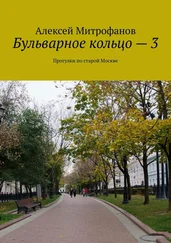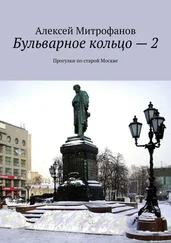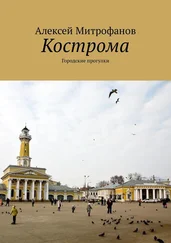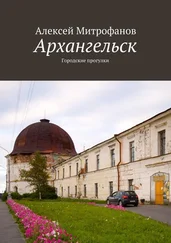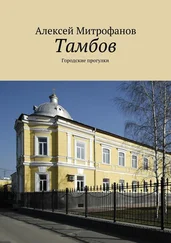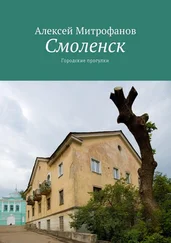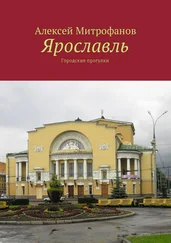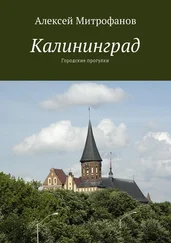Город реабилитирован. И овеян космической славой. Ведь тогда же, в 1961 году Гагарин вышел в космос. И в связи с этим событием вспомнили о Циолковском.
Не удивительно, что в 1967 году именно здесь открывают Музей истории космонавтики, присваивают этому музею имя Константина Эдуардовича и начинают принимать туристов уже не со всей страны, а со всего земного шара. С этого момента город окончательно приобретает статус родины всемирной космонавтики.
Самая оживленная, освещенная и жизнерадостная – улица Кирова, в прошлом Большая Садовая (скорее всего, названная так из-за садов), или Мироносецкая (по церкви Жен Мироносиц), или Теренинская (в честь богатого купца Теренина). Почему так вышло? Почему именно Киров и именно в Калуге? Какая эзотерическая ниточка связывает первого секретаря Ленинградского губкома партии с городом, где он, похоже, никогда и не бывал? Непостижимо.
Улица примечательна также в градостроительном смысле. В одном из путеводителей дано точнейшее описание: «Всякий, кто мог бы посмотреть на наш город с высоты птичьего полета, обратил бы внимание на гигантскую двухкилометровую гантель, протянувшуюся с востока на запад и образованную улицей Кирова и двумя круглыми площадями на ее концах Победы и Мира».
Так и есть: главная улица Калуги упирается концами в две огромные круглые площади. Добро пожаловать на главную калужскую «гантель».
Начинается она с площади Мира. До 1941 года здесь находился калужский театр, а сейчас – памятник Циолковскому, на закладке которого присутствовал сам Сергей Павлович Королев.
С театром связана одна занятная история. В 1775 году Екатерина Великая приехала в город знакомиться с жизнью своих верноподданных. Год случился неурожайный, однако наместник Иван Никитич Кречетников распорядился, чтобы по краям дороги, по которой следовала матушка-императрица, стояли копны сжатого хлеба. Триумфальные ворота, поставленные в честь того события, украсили ржаными и овсяными снопами.
Екатерина Великая прознала про обман и изъявила желание посетить городской театр, притом потребовала, чтобы актеры сыграли комедию Я. Б. Княжнина «Хвастун», как раз и обличающую пускание пыли в глаза высокому начальству. Преподала, так сказать, изящный урок.
Тогда театр еще находился на улице Тульской (нынешней – Кутузова), где размещался в бывшем частном доме, пожертвованном одним купцом. Вскоре дом обветшал, и новое здание было возведено на Сенной площади (теперь – Мира). В 1836 году он сгорел, какое-то время спектакли давали в Загородном саду, но в середине столетия для театра снова отстроили помещение, все на той же Сенной. Спустя 9 лет сгорело и оно, и в 1875 году появилось еще одно, весьма фундаментальное, на том же месте. А площадь переименовали в Театральную. Здесь играли Федотова, Яблочкова, Дальский и иные знаменитости той эпохи.
Калужский театр отличался прогрессивностью. Здесь, например, давали грибоедовское «Горе от ума». Правда, удалось устроить только два спектакля. После чего губернатор Смирнов получил из столицы депешу: «С разрешения г. генерал-адъютанта гр. Орлова имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство приказать означенную пьесу как воспрещенную по Высочайшему повелению для представления на провинциальных театрах, немедленно исключить из репертуара Калужского театра, и с тем вместе не благоугодно ли будет Вам, милостивый государь, сделать распоряжение, дабы на театре не было представлено пьес без предварительного разрешения оных цензурой III отделения».
Что поделать? Пришлось подчиниться.
«Ревизора», впрочем, ставили свободно. В частности, в 1846 году в Калугу прибыл на гастроли актер М. С. Щепкин. Тут же оказавшийся И. С. Аксаков сообщал в письме: «Вечером отправился в театр… Давали „Ревизора“. Щепкин играл по обыкновению очень хорошо».
Все-таки избирательна была цензура того времени.
* * *
Перед театром располагалась биржа калужских извозчиков с выборным старостой, который собственно извозом не занимался, а только лишь следил за выполнением простейших цеховых законов. Главный из них касался очередности обслуживания. Определялся он по жребию – каждый извозчик клал в головной убор свою помеченную денежку (к примеру, гнутую или надломленную), и староста по очереди вслепую доставал из шляпы эти своеобразные «фанты».
За нарушение полагалось наказание, накладывалось и приводилось оно в исполнение незамедлительно – староста бил провинившегося извозчика кнутом по спине.
Читать дальше