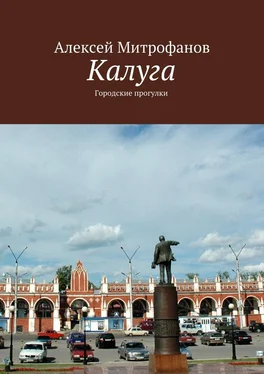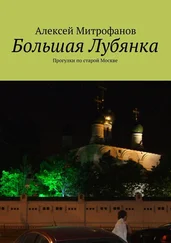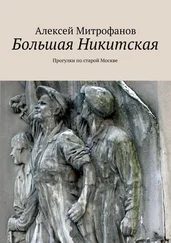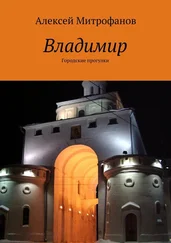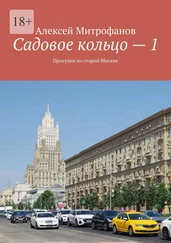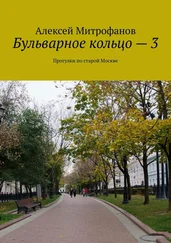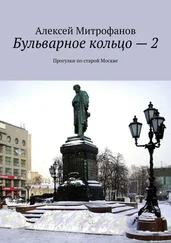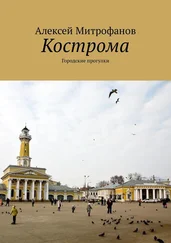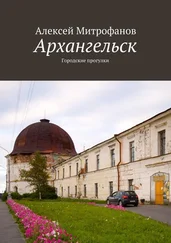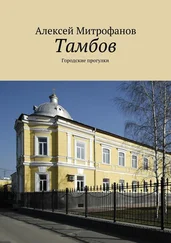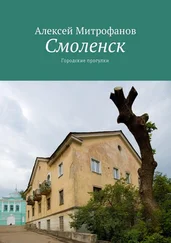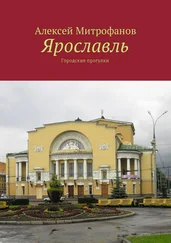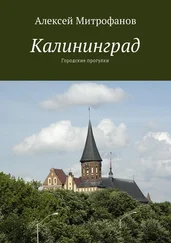Фундаментальнейший комплекс Присутственных мест выстроен был в 1785 году, а в 1788 появился не менее масштабный Гостиный двор. В 1796 году определяется окончательный статус Калуги – центр Калужской губернии. Вскоре после этого в городе появляется прекраснейший архитектурный памятник – дом Золотаревых (ныне – краеведческий музей). А «Большой географический словарь Российской империи» за 1804 год дает Калуге лестное определение: «Жители города Калуги наибольшею частью торговые люди, и хотя не все зажиточные, однако малым промыслом купно взирая на изобилие и дешевизну съестных припасов, живут весьма довольно. Народ весьма здоровый, постоянный, честной и спокойный, женский пол чист, здоров и тих».
(Последнее, пожалуй, можно считать эталоном женственности того времени.)
Тогда же в калужском журнале «Урания» появляется запись: «Ныне сей город весь почти выстроен по опробованному плану весьма порядочно; улицы расширены, а некоторые вновь проведены, которые, будучи большею частию открыты к рекам Оке и Яченке, очищаются от городских испарин, доставляя городу чистый воздух, делая чрез то в оном здоровый для жителей климат; а бдение полиции и исправность пожарных инструментов сохраняют город от свирепости пожаров… Ощутительно калужане с 1777 года переменили как образ мыслей, так и в поступках, и в обхождениях приметно восприяли совсем новое образование: самая одежда, экипажи, пища, пиры и увеселения появились в новом вкусе».
В 1809-м в Калуге появляется целая сеть богоугодных заведений Хлюстиных – явление по тем временам уникальное. Да и по нынешним – тоже. Калуга продолжает хорошеть. Гоголь даже сравнивает город с излюбленным своим Константинополем. Николай I называет Калугу «бесприданной красавицей». А Иван Аксаков пишет: «Что за чудное местоположение Калуги, особенно теперь, при разливе Оки».
В середине девятнадцатого века украшению города здорово способствует правление губернатора В. Арцимовича (везло Калуге с губернаторами). «Кто помнит Калугу до и после управления Арцимовича губерниею, тот может засвидетельствовать, до чего скучен и пуст был наш губернский город в эти два окольные периоды и каким оживлением отметилось это промежуточное, светлое и короткое время, – писал один из современников, П. Обнинский. – Сонный город проснулся, оживился; он стал думать, говорить, действовать, спорить и совещаться в той области человеческого общения, которая живет высшими и чужими интересами, общественными идеалами и нуждами, в которой работают умы и бьются сердца в приподнятом настроении, в которой нет ничего пошлого, злободневного, своекорыстного и узкого, в которой растет и очищается душа человеческая. Сколько новых интеллигентных сил появилось в городе на поприще государ-ственной и общественной службы, как содержательна и интересна сделалась „неофициальная часть губернских ведомостей“, какие жизненные темы завладели беседами в свободный вечерний час! Все ожило и работало вокруг, и воскрешенный обыватель уже не мог оставаться изолированным в этом бодрящем, заразительном и обновляющем движении. Какой-то облагораживающий отпечаток лег на всех и на всем».
Разумеется, не все было так радужно. Оказавшийся в Калуге публицист-народник Н. В. Шелгунов в 1869 году рассказывал: «Есть под Калугой слобода Подзавалье. Хотя она в админи-стративном отношении подчинена 5-му кварталу 1-й городской части, но слобода эта все-таки не часть города, а деревня, тяготеющая к городу экономически и исключительно им живущая. В Подзавалье более 100 дворов и 70 из них живут исключительно сапожным ремеслом. Всех сапожников, взрослых и подрастающих, считается в Подзавалье более 250 человек. Сапожная статистика Подзавалья дает следующие цифры: каждый сапожник может сшить в неделю три пары сапог, а в год не больше 140, следовательно, все Подзавалье сошьет 35 000 пар. Каждая пара дает чистой прибыли от 50 коп. до 1 руб., следовательно, вся чистая прибыль составляет от 17 500 руб. до 35 000; а на каждого отдельного сапожника приходится в год от 70 до 140 руб. Уже из этих цифр видно, что экономическая сторона подзавальского производства не особенно блистательна… Большинство сапожников переколачиваются изо дня в день: чего сегодня выручил, то и проел. Это заставляет их продавать сапоги в лавки или же прямо работать по заказу лавочников, получая от них товар. Лавочная плата 70 коп. с пары, но на каждую пару сапожник делает расходы копеек 20 – гвозди и очищается ему 50 коп… Есть семейства, в которых на одного взрослого мастера приходится трое-четверо ребятишек, которых нужно кормить… Положение таких семейств самое печальное, ибо чем человек беднее, тем все достается ему дороже».
Читать дальше