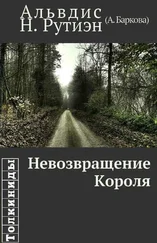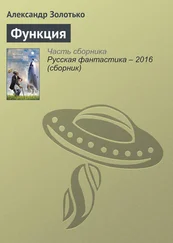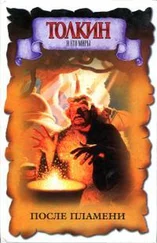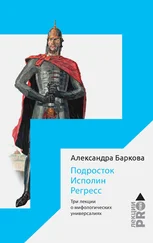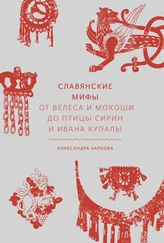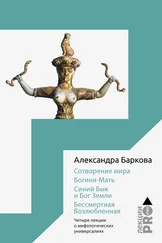Из “младших героев” сильного типа особо следует отметить братьев Гунтера – Гернота и Гизельхера, поскольку с ними связана такая архаическая тема, как сражение с родичем, – Рюдегером, отцом невесты Гизельхера. Два брата являют различное отношение к бою с родичем: Гизельхер уклоняется от схватки (стф. 2171-2172, 2208), а Гернот вступает в поединок с Рюдегером, поражая маркграфа мечом, который тот подарил Герноту, и сам падает убитый Рюдегером (стф. 2216-2220).
Но и Рюдегер, в свою очередь, играет роль “младшего героя” при Дитрихе – А. Хойслер настойчиво подчеркивает это, называя Рюдегера его “Патроклом”: гибель бехларенского маркграфа заставляет Дитриха вступить в бой [Хойслер. С. 115, 170, 201, 422]. Важно отметить, что Хойслер объясняет это сближение с “Илиадой” чисто типологически: “Конечно, Гомер даже косвенным образом не был ему <���австрийскому поэту > известен” [Хойслер. С. 115].
Другой реализацией третьего мотива является гибель дружины одного из “младших героев” – Данкварта. Если применительно к победителю Дитриху гибель его дружины – это однозначно заместительная жертва (стф. 2235 и след .), то применительно к “младшему герою” смерть его двенадцати вассалов и девяти тысяч воинов (стф. 1936-1937) можно рассматривать как “поэтапное умерщвление”, несмертельную рану. Сам Данкварт погибает в финале (стф. 2291).
Реализацией второго мотива является всё сражение во дворце Этцеля, где практически все поименно обозначенные персонажи убивают несчетное множество простых воинов, так что после только одного дня боя из зала выносят семь тысяч мертвых. Особо интересен эпизод, где лишь вид стоящих на страже Хагена и Фолькера отпугивает четыреста гуннов (стф. 1799) – своеобразный вариант бескровной победы над противником.
Что же касается первого мотива, то, как и в “Эдде”, он отсутствует, хотя тема стремления навстречу смерти выражена только в образе Хагена (стф. 1791). Причина этого отсутствия – преемственность по отношению к более древним формам сказания, где герои искали гибели, а не были жертвой обмана.
* * *
Сюжет якутского олонхо строится на многократном повторении нашего третьего мотива в специфической редакции: на помощь слабейшему спешит сильный, причем совершенно не объясняется, почему богатырь вступает в бой один, а спаситель (спасительница) появляется позже. Если богатырь, терпящий поражение, – главный герой, то к нему на помощь спешит герой-помощник; если, напротив, главный герой приходит на выручку второстепенному, то мы имеем дело с образом ложного героя. О многочисленных воплощениях этих образов речь пойдет в следующих главах. Единственный случай, отдаленно напоминающий сюжет с участием сильного "младшего героя", это попеременный бой Кулун Куллустуура и его жены с абаасы (№ 27, с.123-124) (Номера и страницы приведены по: [Емельянов]): там спаситель медлит потому, что был изранен прежде героя (сравни начальное удаление богатырей в былине о Ермаке).
Вот этот эпизод. Возродившийся противник Кулун Куллустуура нападает на него, и, когда герой изранен в бою, его заменяет жена, а когда она изнемогает – то ее сменяет муж. Внешне поведение супругов совершенно нелогично: почему бы им ни напасть на врага вдвоем, вместо того чтобы проявлять взаимовыручку? – тем более, что бой одного с несколькими противниками в олонхо встречается. Мы полагаем, что объяснением странного поведения супругов является воспроизведение мотива "едва-не-гибель" героя, сознательное оттягивание сказителем победы, стойкость того, что мы выделили как наш третий мотив. Здесь супруги поочередно оказываются в роли "младшего героя" по отношению друг к другу.
Героям олонхо, также как и персонажам всех других архаических сказаний народов Сибири, присуще гневное преображение. О нем мы уже упоминали в связи с Кухулином и Ахиллом; сейчас подчеркнем, что в западноевропейском эпосе подобные случаи единичны, в то время как в архаическом эпосе описание гневного преображения относится к числу общих мест. С другой стороны, в классическом эпосе описание гневного преображения является составляющей мотива "бой героя с войском", а в олонхо и стадиально-близких ему эпических произведениях гневное преображение будет, разумеется, связано с поединком.
Описание преображения Нюргун Боотура Стремительного текстуально совпадает с описанием гневного преображения Кухулина. Мы не будем приводить здесь полный список совпадений, он имеется в другой нашей работе [Баркова. 1997. С. 59], отметим лишь, что немаловажное место в описании трансформации героя занимает упоминание различных огней, которые охватывают его волосы, слетают со скул, сыплются из глаз, самый большой из этих огней пляшет над головой [Нюргун Боотур Стремительный. С. 38, 130, 192, 412]. Как видим, эта огненная природа героического гнева настойчиво подчеркивается сказителями от Гомера до П. Ойунского, от Греции до Сибири. Типологически родственным нам представляется зримое изображение пламени гнева на буддийских иконах-тханках, представляющих докшитов – гневных защитников буддийского учения [Баркова. 2001. С. 120].
Читать дальше