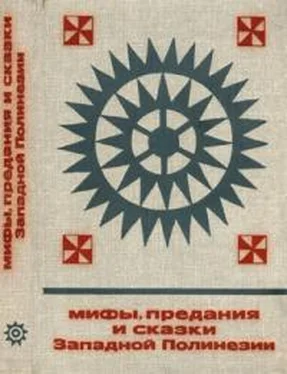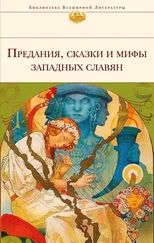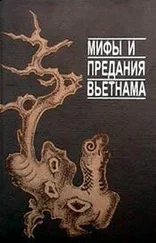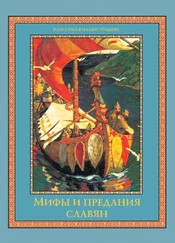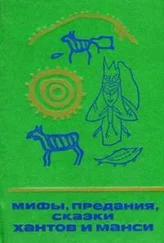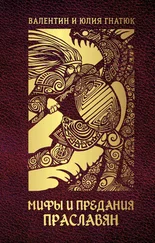Наиболее отчетливо стремление к членению мира по вертикали сказывается в полинезийском представлении о небесных мирах (ср. № 23, 106). Мы приведем здесь тонганскую песнь о небесах, весьма интересную в этом отношении:
Слушай, о поющий, слушай,
Я расскажу о небесах.
Вот первое, вот второе небо.
Их Мауи толкнул, чтобы стали выше.
Резко, с натугой они подались!
Нам, людям, отведены два края —
Предел небесный и нижние земли.
А в небе третьем и в небе четвертом
Живут невидимые и свободные.
И еще есть небо — небо дождя,
Оно закрывает чистое небо.
В пятом же небе и в небе шестом
Живет тонущее в крови солнце,
И с ним живут там малые звезды,
Что чередой идут друг за другом,
Подобно цветам одного ожерелья.
Снизу на них взирают люди...
В небе седьмом и в восьмом небе
Живет Хина, живет Синилау;
И это, должно быть, небо грома,
Там могучий рождается голос,
Гремящий гневом в преддверье несчастья.
Девятое же и десятое небо
Устланы перьями дикой цапли...
[30, с. 18].
В полинезийской мифологии небеса были жилищем высших богов, богов — покровителей ремесел (№ 106-108) и некоторых легендарных предков. В отличие от Восточной Полинезии, где пантеон включал плеяду небесных богов, по значимости равных друг другу (Тане, Тангароа, Ту, Ронго [28] 28 См. о них в работах Е. М. Мелетинского [3; 4].
), в Западной Полинезии почитался прежде всего Тангалоа, и подчас он один.
В мифах Западной Полинезии Тангалоа многолик и выполняет множество разных ролей: он и демиург, и бог света, и властелин моря, и хозяин радуги или ветра. У ниуэанцев (как, по-видимому, и у мориори, вымершего народа островов Чатем) он считался также богом войны, и именно ему возносились молитвы перед началом военных действий. Согласно ряду мифов, Тангалоа не бог, а поднявшийся на небо дух предка; нередко Тангалоа считается предком определенных вождей, недаром к нему возводятся генеалогии тонганских и самоанских "королей". На островах Вавау именно Тангалоа (а не Мауи, как в подавляющем большинстве других мифологий) приписывался подвиг вылавливания островов из-под воды; считалось, что первым выуженным островком был Хунга. Тонганцы почитали также Тангалоа, или Тангалоа-туфунга, — патрона плотников.
Кажущееся однообразие пантеона Западной Полинезии (в сравнении с Восточной) компенсировалось и наличием представлений о семействе Тангалоа, в котором различались Тангалоа-демиург, Тангалоа-прорицатель, Тангалоа-правитель. Тангалоа-мудрец, Тангалоа-посланник, Тангалоа-мастер, Тангалоа-воин. В ниуэанском фольклоре ряд функций, приписываемых в других мифологиях семейству Тангалоа, переходят к семейству духов (или богов) Хуанаки (№ 104-106, 110, 111). Переплетение в образе Тангалоа черт собственно божества, демиурга, легендарного предка и хозяина стихий даже побудило Те Ранги Хироа предположить [12, с. 228], что Тангалоа был реальной исторической личностью, хотя, конечно, трудно в такой степени полагаться на реализм мифологического творчества.
В пестрой и на первый взгляд разноречивой мифологии Тонга и Самоа есть и такие рассказы, в которых Тангалоа появляется и начинает действовать не сразу. Сначала из Ничего (ср. самоанское Леаи — "Ничто") или из Пустоты (Простора) появляется некоторое обиталище для Тангалоа, а уже потом — он сам. Он либо создает — долго и мучительно — первые острова, либо спускается по великой вертикали "верх — низ" на уже готовые земли, где сходится с земной женщиной. Именно так, по некоторым тонганским мифам, появляются первые вожди.
Сотворение человека тоже деяние Тангалоа. Нередко, однако, он сам не совершает акта творения, а посылает на землю кого-то из подвластных ему духов, принимающих облик человека или птицы. Непосредственный акт творения сопровождается столь же существенным, дублирующим его актом имяположения: человеку и частям его тела обязательно даются имена.
Мотив называния — называние живых существ, объектов неживой природы, местностей, островов, явлений — вообще крайне популярен в полинезийской мифологии (ср. № 23, 24, 43, 50, 70, 118). Большинство имен, появляющихся в мифах, не случайны: они мотивированы как ролью персонажа, так и собственной внутренней формой. Это объясняется типичным для мировых мифологий представлением о силе, заложенной в имени, о внутренней связи имени и его носителя.
При таком восприятии имени становится актуальной и проблема его сокрытия, оберегания: имя — это человек, его дух, а значит, имя — табу. Несомненно, с этим связана одна из характернейших черт океанийского фольклора: имена персонажей в фольклорных текстах называются куда реже, чем это привычно для европейца. Будучи один раз назван, т. е. введен в рассказ, персонаж далее обозначается словами "он", "этот", "тот" и т. п. Мы постарались, насколько это возможно, передать эту особенность текстов и в переводе.
Читать дальше